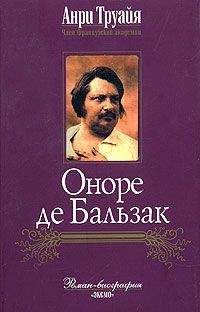— Ваши слова начертаны у меня здесь, — сказал Кристоф, притрагиваясь ко лбу.
Охваченный порывом религиозного чувства, Шодье обнял своего питомца. Он гордился им.
— Да хранит тебя господь, — сказал он, показывая на закат, который обливал багрянцем крытые гонтом дома и пронизывал своими лучами целую чащу балок, среди которых клокотала вода.
— Ты настоящий сын своего народа, — сказал Ла Реноди Кристофу, пожимая ему руку.
— Мы еще увидимся, сударь, — заверил его принц, необычайно милостиво, чуть ли не дружески прощаясь с ним.
Одним взмахом весла Ла Реноди доставил юного заговорщика на ступени лестницы, которая вела в дом, и лодка тотчас же исчезла под аркадами Моста Менял.
Кристоф стал трясти железную калитку, которая вела от реки на лестницу, и крикнул; г-жа Лекамю услыхала его, открыла одну из ставней задней комнаты и спросила, как он сюда попал. Кристоф ответил, что на реке холодно и надо сначала открыть ему дверь, а потом уже спрашивать.
— Хозяин, — сказала служанка-бургундка, — вы ушли через улицу, а возвращаетесь по воде? Подумайте, как батюшка рассердится.
Кристоф, все еще под впечатлением встречи с принцем Конде, Ла Реноди и Шодье и еще более потрясенный известием о гражданской войне, которая вот-вот должна была разразиться, ничего не ответил. Он стремительно поднялся из кухни в заднюю комнату: увидав его, старуха мать, ярая католичка, была не в силах сдержать свой гнев.
— Я готова поклясться, что те трое, с которыми ты говорил там, — это реформаты. Не так ли? — спросила она.
— Замолчи, жена, — предусмотрительно одернул ее седовласый старец, листавший в это время толстую книгу. — А вы, бездельники, — обратился он к трем юношам, которые давно уже кончили ужинать, — чего вы спать не ложитесь? Уже восемь часов, вам ведь утром в пять часов вставать. Не забудьте, надо отнести шапку и мантию президенту де Ту. Идите туда все втроем да прихватите с собой палки и рапиры. По крайней мере, если вам повстречаются какие-нибудь шалопаи, вроде вас самих, вы сумеете с ними справиться.
— А надо ли брать с собой горностаевый казакин, что молодая королева себе заказала, тот, который мы должны отправить во дворец Суассон, или будет нарочный в Блуа и к королеве-матери? — спросил один из приказчиков.
— Нет, — ответил синдик, — счет королевы Екатерины достиг уже трех тысяч экю; пора получить по нему деньги, я думаю для этого сам поехать в Блуа.
— Отец, я не допущу, чтобы вы в ваши годы да еще в такое время подвергались опасности на дорогах. Мне уже двадцать два года, и вы можете послать туда меня, — сказал Кристоф, украдкой поглядывая на сундук, где был спрятан казакин.
— Вы что, прилипли, что ли, к скамейке? — закричал старик на своих подмастерьев, которые сию же минуту схватили свои рапиры, плащи и меха г-на де Ту.
На другой день парижский парламент принимал во дворце своего нового президента — этому знаменитому человеку, который подписал смертный приговор советнику дю Буру, суждено было еще в том же году судить принца Конде.
— Послушай, Бургундка, — сказал старик, — сходи-ка ты к куму Лаллье да пригласи его с нами поужинать. Пусть он только вина прихватит, а еда вся наша. Да скажи ему, чтобы непременно дочку с собой приводил.
Синдик цеха меховщиков был благообразным стариком лет шестидесяти с седыми волосами и широким открытым лбом. Будучи в течение сорока лет поставщиком двора, он пережил перевороты, происходившие в царствование Франциска I, и удержался на своем месте, несмотря на все женские распри вокруг трона. Он был свидетелем появления при дворе юной Екатерины Медичи, которой тогда еще не было и пятнадцати лет; он видел, сколько унижений ей пришлось вынести при герцогине Этампской, любовнице ее свекра, видел, как ее унижала герцогиня де Валантинуа, любовница ее мужа, покойного короля. Но нашему меховщику удалось пережить все эти разительные перемены, не в пример многим другим поставщикам двора, благополучию которых приходил конец, когда та или иная любовница короля впадала в немилость. Он был столь же благоразумен, сколь и богат. Вел он себя до крайности скромно. Гордыня ни разу не заманила его в свои сети. Этот купец при дворе в присутствии принцесс, королев и королевских любовниц умел прикинуться тихим, незаметным, смиренным и уступчивым, и не что иное, как это добродушие и скромность, помогло ему сохранить свою торговлю.
Таким дипломатом мог быть только человек очень хитрый и проницательный. Но чем больше смирения он проявлял, общаясь с людьми посторонними, тем более деспотичным он становился в стенах собственного дома: там все были в его власти. В своей отрасли торговли он занимал первое место, и поэтому его собратья относились к нему с большим почтением. К тому же он охотно оказывал людям разные услуги, и среди всего, что он для них делал, несомненно, самой значительной была та помощь, которую он в течение долгого времени оказывал знаменитому хирургу XVI века Амбруазу Паре; тот получил благодаря ему возможность целиком отдаться своей науке. Когда возникали какие-либо недоразумения между купцами, Лекамю всегда выступал в роли примирителя. Таким образом, всеобщее уважение закрепило его позиции среди равных ему, в то время как своей показною кротостью он снискал себе расположение двора.
После того, как в результате этой хитрой и ловкой политики он сумел вырасти в глазах всех своих собратьев по ремеслу, он стал делать все для того, чтобы сохранить репутацию благочестивого человека в глазах кюре церкви Сен-Пьер-о-Беф, который считал его одним из самых ревностных католиков в Париже. Поэтому, как только были созваны Генеральные штаты, под влиянием парижских кюре, которое в те времена было огромно, он был единогласно избран туда в качестве представителя третьего сословия.
Этот старик был одним из тех тайных и закоренелых честолюбцев, которые добрых пятьдесят лет готовы унижаться перед всеми и каждым, вымогая себе должность за должностью, причем никто даже не подозревает, как эта должность им достается. И что же, на старости лет они достигают таких высот, о которых в молодые годы даже наиболее дерзновенные из них не смели мечтать: так далека была цель, столько раз обрывы преграждали путь к ней и так легко было сорваться в пропасть! Лекамю, который втайне сумел скопить огромное состояние, не хотел ничем рисковать и готовил блестящее будущее для своего сына. Вместо честолюбия личного, которое жертвует будущим во имя настоящего, у него было честолюбие семейное, чувство, уже утраченное в наши дни и сведенное на нет нашим законодательством о правах наследования[95]. Лекамю уже представлял своего внука первым президентом парижского парламента и отождествлял себя с ним.
Кристоф, крестник знаменитого историка де Ту, получил прекрасное образование; но образование это породило в нем дух сомнения и страсть к исследованию, которыми были заражены тогда студенты и все университетские факультеты. Кристоф готовился стать адвокатом — это была первая ступень на судейском поприще. Старый меховщик делал вид, что никак не может решить, какая карьера больше всего подходит для его сына; иногда казалось, что он хочет сделать из него адвоката, в действительности же он домогался для него места советника парламента. Этот купец хотел, чтобы род Лекамю сравнялся с теми древними и знаменитыми парижскими купеческими родами, из которых вышли Паскье, Моле, Мирон, Сегье, Ламуаньон, дю Тилле, Лекуанье, Лескалопье, Гуа, Арно, знаменитые эшевены и купеческие старшины — защитники трона. Поэтому, для того чтобы Кристоф мог оказаться достойным той должности, которую он ему прочил, старик собирался женить его на дочери самого богатого ювелира столицы, своего кузена Лаллье, племяннику которого выпало на долю передавать Генриху IV ключи Парижа. Но этот купец лелеял и еще один тайный план: половину своего состояния и половину состояния ювелира ему хотелось употребить на приобретение большого дворянского поместья, что в ту пору было делом трудным и требовавшим немало времени. Однако этот тонкий политик слишком хорошо знал свое время и не мог не понимать, какие огромные перемены назревают вокруг: он ясно предвидел, что государство разделяется на два лагеря, и последующие события показали, что он был прав. Бессмысленные казни на площади Эстрапад, казнь портного Генриха II, совсем недавняя казнь советника Анна дю Бура, сговор фаворитки с реформатами в царствование Франциска I и недавний сговор с ними высшей знати — все это были зловещие признаки. Меховщик решил, что бы ни случилось, оставаться католиком, роялистом и сторонником парламента, но in petto[96] он хотел, чтобы его сын принадлежал к Реформации. Он считал себя достаточно богатым, чтобы выкупить Кристофа, если тот слишком себя скомпрометирует, и надеялся, что, если Франция обратится в кальвинизм и Парижу будут грозить уличные бои, его сын сможет стать спасителем всей семьи. А память о таких боях, возобновлявшихся и в последующие четыре царствования, была жива среди горожан. Но всеми этими мыслями старый меховщик, точно так же как и Людовик XI, не делился даже с самим собою: он был настолько хитер, что умел обманывать и жену и сына. Этот властный человек давно уже возглавлял самый богатый, самый населенный квартал Парижа, его центр, — он именовался квартальным старшиной, а это была должность, которая через пятнадцать лет приобрела завидную популярность. Одетый в суконное платье, подобно всем благоразумным купцам своего времени, которые повиновались законам, направленным против роскоши, сьер Лекамю (а он носил это звание, которым Карл V удостоил парижских горожан, разрешив им покупать земельные угодья, а их женам называться звучным именем — демуазелей) не носил ни золотой цепи, ни шелков, а только добротную куртку с большими пуговицами из черненого серебра, суконные штаны и кожаные ботинки с пряжками. Из-под его полурасстегнутой куртки виднелась тонкая полотняная навыпуск рубаха, собранная в буфы, как этого требовала тогдашняя мода. Хотя крупное и красивое лицо старика было хорошо освещено лампой, Кристоф никак не мог догадаться, какие мысли скрывались под его голландским румянцем. Но он все же понимал, на что рассчитывал старый Лекамю, поощряя его чувства к Бабетте Лаллье. Поэтому, как человек, уже сделавший выбор, Кристоф, услыхав, что отец пригласил его невесту, только усмехнулся, и в усмешке этой была горечь.