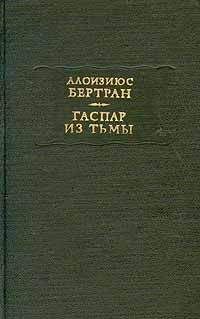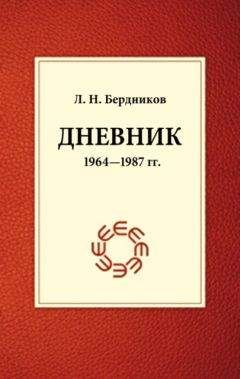Продавец тюльпанов (KH. I, V)
Тюльпан среди цветов – то же, что павлин среди птиц. Один без запаха, другой без голоса; один гордится своим одеянием, другой – своим хвостом.
«Сад редкостных, необычайных цветов»
Ни звука, только шелестят веленевые листы под пальцами доктора Гюильтена, который не поднимает глаз от своей Библии, усеянной готическими цветными заставками, разве только чтобы полюбоваться мельком золотом и пурпуром двух рыбок в плену влажных стенок стеклянного шара.
Двери распахнулись: это был продавец цветов. Прижимая к груди обеими руками несколько горшков с тюльпанами, он извинился, что позволил себе прервать чтение столь ученой особы.
– Мэтр, – сказал он, – вот сокровище из сокровищ, чудо из чудес, луковица, что цветет только раз в сто лет в серале Константинопольского султана!
– Тюльпан! – гневно воскликнул старик. – Тюльпан! Символ гордости и сластолюбия, породивших в злосчастном городе Виттенберге гнусную ересь Лютера и Меланхтона!
Мэтр Гюильтен застегнул свою Библию, спрятал очки в футляр и отдернул занавесь окна, чтобы рассмотреть на солнце цветок страстей с его терновым венцом, губкой, кнутом, с его гвоздями и пятью ранами Спасителя.
Продавец тюльпанов, почтительно склонившись, молчал, оробев под инквизиторским взором герцога Альбы, чей портрет, шедевр Гольбейна, висел на стене.
Отлет на шабаш (кн. I, IX)
Она поднялась ночью, засветила свечу, взяла зелье и намазалась им, после чего, бормоча какие-то слова, унеслась на шабаш.
Жан Воден. О колдовской демономании
Их там была дюжина, они уплетали пивную похлебку, и у каждого вместо ложки – кость предплечья мертвеца.
Очаг пылал красным жаром, свечи оплывали в дыму, и от тарелок несло, как из отхожей ямы весной.
И когда Марибас смеялся или плакал, казалось, будто смычок стонет, надсаживаясь на трех струнах сломанной скрипки.
Но вот смельчак раскрыл на столе по дьявольским правилам при свете сала колдовскую книгу, на которой тут же забилась обжегшаяся муха.
Она все еще жужжала, когда на край волшебной книги огромным мохнатым брюхом вскарабкался паук.
Но уж и колдуньи, и колдуны умчались верхом через трубу, кто на метле, кто на щипцах, а Марибас на печной заслонке.
Mаска. Темно совсем. Одолжи свой фонарь.
Мерпурио. Ба, кошкам фонарем служат их два глаза.
«Карнавальная ночь»
– И как это я такое придумал, нашел место спрятаться вечером от грозы, я, я, маленький чердачный домовой, в большом фонаре госпожи де Гургуран!
Я посмеивался над домовым, который под проливным дождем носился, ворча, вокруг освещенного дома и не мог найти дверцу, в которую я проник.
И напрасно он, прозябший, хрипел, умоляя меня позволить ему хотя бы зажечь свой крысиный огрызок от моей свечи, чтобы найти дорогу к себе в подвал.
Вдруг желтая бумага фонаря вспыхнула, разорванная порывом ветра, от которого застонали на улице все вывески, повисшие, как флаги.
– Иисусе Христе, помилуй нас! – завопила святоша, крестясь всеми пятью пальцами.
– Чтоб тебя черт тиснул калеными щипцами, старая ведьма, – вскричал я, плюясь огнем обильнее, чем шутиха фейерверком.
Это я – увы! – который еще сегодня утром красовался, соперничал своим нарядом со щегленком из алого сукна на покрывале юного сеньора де Люин!
Готическая комната (кн. III, ХХ)
Ночью моя комната полна дьяволами.
Отцы Церкви
– О! – шептал я ночи, – земля – это благоуханная чашечка цветка, а звезды и месяц – ее тычинки и пестик!
И со смежающимися от сна глазами я закрыл окно, и рама его вырезалась крестом Голгофы, черным в желтом сиянье стекол.
* * *
Будь это еще не в самую полночь, час, отмеченный драконами и дьяволами, – может быть, это просто гном напивается допьяна маслом моей лампы!
Может быть, это только кормилица, баюкающая с монотонным пением в панцире моего отца мертворожденного младенца!
Может быть, это только скелет ландскнехта, замурованного в стене и стукающегося об нее лбом, локтями и коленями!
Может быть, это просто мой предок вылез из своей источенной червями рамы и окунает свою латную рукавицу в святую воду кропильницы!
Но нет, это Скарбо, он кусает меня в шею и, чтобы прижечь мою кровоточащую рану, сует в нее свой железный палец, раскаленный докрасна в адском огне.
…И смутно слышу я, Блаженно погружаясь в усыпленье, Гармонией пленяющее пенье, И шепот, грустный, нежный, ласкает и баюкает меня.
Ш. Брюньо. Два духа
– Слушай! Слушай! Это я, Ундина, скольжу каплями воды по звонким ромбам твоего окна, освещенного бледными лучами луны; а вот в муаровом платье владелица замка на своем балконе любуется звездной ночью и прекрасным уснувшим озером.
Каждая волна – это Ундина, плывущая в струе. Каждая струя – это тропинка, которая змеится к моему дворцу, а дворец мой плавучий построен в глубине озера, в триангле огня, воздуха и земли.
– Слушай! Слушай! Отец мой бьет по бурливой воде зеленой ветвью ольхи, а сестры мри ласкают своими пенными руками свежие островки трав, кувшинок и водяных лилий или смеются над дряхлой бородатой ивой, которая удит рыбу.
Пролепетав свою песенку, она стала умолять меня, чтобы я надел ее кольцо себе на палец, как супруг Ундины, и отправился с ней в ее дворец, чтобы сделаться королем озер.
И когда я ответил ей, что я люблю смертную девушку, она надулась и с досады проронила несколько слезинок, а потом разразилась хохотом и исчезла в белых струйках, которые зазмеились по моим синим стеклам.
Шевреморт [188] (кн. VI, XLIX)
И я тоже изодран терниями этой пустыни и каждый день оставляю в ней клочки своей кожи.
Шатобриан. Мученики, кн. X
Здесь не пахнет мхом дубовым, здесь не благоухают почки тополей, ветры и воды не шепчут о любви.
Не точатся благовонные испарения утром, после дождя, в вечерние росистые часы; ничто не услаждает слух, разве только вскрик пташки, собирающей травинки.
Пустыня, которая уже не слышит гласа Иоанна Крестителя! Пустыня, в которой ныне уже не ищут убежища ни отшельники, ни дикие голуби!
Так душа моя – это одиночество, где я, на краю пропасти, протягивая одну руку жизни, а Другую – смерти, не могу удержаться от горького рыданья.
Поэт – это дикий левкой, хрупкий, благоуханный, который льнет к камню и нуждается не столько в земле, сколько в солнце.
Но увы! для меня нет больше солнца, с тех пор как смежились прелестные очи, которые вдохновляли мой дар.
22 июня 1832 г.
Перевод Н. И. Балашова (1945)
Продавец тюльпанов (кн. I, V)
Никакого шума, если только это не шуршанье веленевых листов под пальцами доктора Гейльте-на, который поднимает глаза от своей Библии, испещренной готическими цветными заставками, только затем, чтобы полюбоваться золотом и пурпуром двух рыбок, плененных во влажных стенках сосуда.
Створки двери растворились, и вошел продавец цветов, с руками, полными горшочков с тюльпанами, прося извинения, что нарушил занятия столь ученого лица.
– Мэтр, – говорит он, – вот сокровище из сокровищ, чудо из чудес, луковица, подобная коей не расцветает никогда, разве только раз в столетие в серале императора Константинопольского!
– Тюльпан! – вскричал разгневанный старец. – Тюльпан – сей символ гордости и сладострастья, что породили в злосчастном городе Виттенберге ненавистную ересь Лютера и Меланхтона!
Мэтр Гейльтен замкнул застежки Библии, аккуратно уложил очки в футляр и отдернул гардину, открыв залитый солнцем страстоцвет со своим терновым венцом, наростом – губкой, отростком – бичом, почками – гвоздями и пятью ранами господа нашего.
Продавец тюльпанов почтительно и безмолвно склонился, смятенный инквизиторским взглядом герцога Альбы, портрет которого, шедевр Гольбейна, висел на стене.
Перевод К. А. Афанасьева (1978)
Уготовь мне, господи, к часу моей кончины молитву пастыря, полотняный саван, еловый гроб и сухую могилу.
Молитва господина Марешаля
– Отойдешь ты прощенным или осужденным, – прошептал мне Скарбо прошлой ночью, – все равно будет саваном тебе паутина, и я погребу в ней паучиху вместе с тобой.
– Пусть бы саваном стал, – отвечал я ему с покрасневшими от слез глазами, – осиновый листик и чтоб дыхание озера убаюкивало в нем меня.