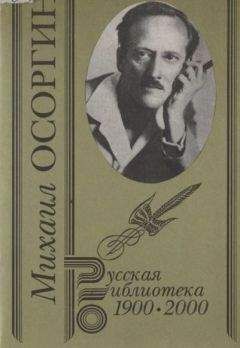На другой же день по приезде стали готовить Наталью Демьяновну к приему императрицы. Показать ее такой, как была, и думать не приходилось: государыня не обидится, а придворные засмеют старуху. Поэтому напустили на Розумиху портных, разрядили ее в фижмы, позвали волосочеса, который провозился над нею не час и не два. Во дворец ее привели разряженной, «мов на ярмарке», с лицом нарумяненным и набеленным, обклеенным черными мушками, как требовалось по моде. На голову ей навертели огромную куафюру, столь непривычную «писля очипка». Сама собой старуха и идти не могла — вели ее под руки. И заранее научили, что когда появится государыня, то должна она, Наталья Демьяновна, встать перед ней на колени и благодарить ее за все милости себе и сыну.
Шла старуха, как во сне, ноги подкашивались, голова с прической едва держалась на плечах. А когда ввели в зал, то увидала Розумиха перед собой дивное видение — в пух и прах разодетую пани, с лицом размалеванным, с башней на голове; увидав — повалилась на колени и сразу позабыла все слова. Однако сопровождавшие поспешили поднять Наталью Демьяновну, объяснив ей, что это не государыня, а она сама в большом зеркале, чему долго она не хотела верить.
Тут вошла и государыня Елисавет Петровна, женщина красоты удивительной, и хоть одета со всей роскошью, а на чучело не похожа. Едва встала Розумиха на колени, как царица ее подняла и поцеловала, сказавши ей: «Блаженно чрево твое!» и еще много ласковых и простых понятных слов.
Когда прием кончился, Наталью Демьяновну окружили придворные люди, затолкали ласками, запугали подобострастием, и каждый старался, чтобы она его запомнила. Розумиха стояла ряженой куклой, отвечать не могла, да и кланяться в ответ не могла по причине тяжести головы, украшенной буклями. Однако сразу поняла, что полагается ей держаться важно и в обиду себя не давать, да и кто смеет ее обидеть при таком сыне! Может, и была она раньше шинкаркой, теперь же, милостью императрицы, сделалась она статс-дамой, а что это значит — после сынок расскажет.
И потекли дни странные, жизнь в богатстве и пышности, пища обильная, спрашивай чего хочешь, и даже любимую цибулю приносит на серебряном подносе разодетый человек. Жила Наталья Демьяновна при дворе, привыкла видеть государыню, всегда к ней ласковую, балакала на родном языке с сыновьями и дочерью, научилась ничему не удивляться, даже тому, что и младший ее сын, вчерашний пастушок, вдруг стал важным барином и так быстро к этому приспособился, словно никогда и не пас волов на хуторе в Лемешах. Поговаривали, что государыня жалует дворянство не только Кириллу, а и всем Розумихиным зятьям, и ткачу Будлянскому, и козаку Дарагану, и закройщику Закревскому, а с дворянством дадут им и хорошие должности. Одно горе: нет здесь лемешинских кумушек и свах, не с кем пощебетать и поделиться чудесами!
Прошло времени немного, поехала государыня и весь двор в Москву на коронацию; в царском поезде, в богатой карете отправилась в Москву и Розумиха.
Как ни была проста лемешская шинкарка, а все же задумывалась, почему свалилось на голову ее сына такое невиданное счастье: стать при царице первым человеком? Что он грамотен да что хорошо поет — таких рядом с ним найдется немало из знатных и родовитых. А вот что он строен и красив, да смел, да нравом прекрасен — это правда. Спросишь его самого — только посмеивается, а про государыню говорит почтительно и любовно, как про дорогого и близкого человека. Сама же царица относится к Наталье Демьяновне не как ко всем, а с особой заботой и любовью, словно бы к родной матери. Скажешь ей: «Здравы булы, пани господыня!» — а она целует в обе щеки, как равную. Что-то тут неспроста, а догадываться боязно.
Если сказкой была петербургская придворная жизнь, то торжество коронования совсем ослепило Наталью Демьяновну. Увидав горящие смоляные бочки и потешные огни в небе, думала она, что горит вся Москва. Государыня же была так прекрасна, как икона в Божьем храме. От шумных праздников кружилась голова, и тут, как никогда, взгрустнулось Розумихе по тихому хутору, по курам, баранам и коровкам, брошенным без хозяйского призора. Там, в деревенской тиши, была бы она сейчас наипервейшей важной пани, а здесь не обижают ее только потому, что боятся гнева царицы, про себя же всякий знатный человек подсмеивается над старой шинкаркой, не умеющей ступить шага.
— Добре туточки, тай ладно. А так моркотно — хоть у криницу кидайся!
Пробовала проситься домой: «Мене там свыни тай курки чекают», — но сын просил подождать: есть одно такое дело, что без матушки ему никак обойтить не можно:
— Дело тайное, а какое — о том после узнаешь.
И однажды вывели Наталью Демьяновну из дворца и посадили в карету. Выехали под вечер в трех каретах, а кто в двух других — неизвестно, не было ни гайдуков, ни конвою, а ехали быстро, долго и без остановок. Вышли в каком-то поселке перед скромной церковью, из первой кареты женщина, с головой укутана, из другой Алексей Григорьевич с двумя молодцами, из третьей высадили Наталью Демьяновну.
А в церкви зажжены свечи и ждут поп с дьяконом, а никого народу нет. А когда женщина сняла свои шали, то оказалось, что это сама красавица государыня Елисавет Петровна в белом платье парчовом и белой тонкой прозрачной тафте. Был посреди храма постлан червленый шелк перед налоем, и на тот коврик разом ступили двое: государыня, яко невеста, а рядом с ней шинкаркин сын Алексей Григорьевич Разумовский, красавец и великан, государыне под пару.
Тут под Натальей Демьяновной ходуном заходил пол, и как упала на колени, так и не вставала до конца венчания. Думала: может быть, снится ей сон, ни на попа, ни на молодых не смотрела. И только тогда поднялась, когда подошли к ней молодые и государыня ей сказала:
— Матушка, мы твое благословенье заранее знали, а теперь благослови повенчанных на добрую жизнь. Дело это тайное, только между нами и останется.
На обратный путь посадили Розумиху в одну карету с молодыми. И всю дорогу они смеялись и ласкали испуганную старуху, признавшись ей, что друг друга давно полюбили и что любовь свою увенчали законным браком, только об том разговора нигде быть не должно.
— А теперь, матушка, если тебе с нами не любо, поезжай к своим куркам. Придет время — мы к тебе в гости приедем.
* * *
На голове Натальи Демьяновны, под платком, хоть и новый, но все же привычный очипок, и платье на ней удобное и простацкое, без дурацких фижм, о которых она и вспоминать-то не хочет. Волы, курки, свиньи благоденствуют, числом прибыли безмерно, и хата новая, самая богатая в селе, самая высокая, самая почтенная. Но в шинке сидеть уже нельзя, неудобно пани Разумовской, матери знатнейшего человека на Руси. Прежних приятельниц, соседок и кумушек, пани Разумовская не гнушается, а как начнет рассказывать, так кумушкам ничего не остается, как развесить уши.
И так уж все чудесно, — но могла бы рассказать им старуха такое, что ни одна бы кумушка не решилась впредь сидеть в ее присутствии и на всю округу ни один человек не смел бы стоять перед Розумихой в шапке. Но этого рассказать старуха не может: дала зарок. И сама — помнит, а не верит, был ли то сон, или вправду довелось ей стать свекровью дочери Петра Великого?
Если бы не наша непростительная национальная застенчивость, то давно бы весь мир знал, что все великие изобретения и открытия, за исключением парламента и социализма, сделаны русскими. Впрочем, первый самовар найден был при раскопках в Помпеях, а счеты были известны китайцам задолго до христианской эры. Все же остальное, чем гордится наше время, было у нас много раньше, чем в Европе.
Всякому известно, что первую электрическую свечку сделал Яблочков, а радио открыл Попов. Но не всякому известно, что первую летательную машину соорудил «черный московский человек» в 1647 году, за что был бит плетьми нещадно, машину же сожгли и пепел развеяли по ветру.
Поющую машину, в виде птицы, смастерил крепостной Гришка Плосколик, отделавшийся пустяками: его лишь слегка посекли и приказали впредь ничего не выдумывать.
Аэросани изобрел бумажной мельницы работник Ивашка Культыгин и катался на них изрядно, но, по доносу попа Михайлы Варваринской церкви, был взят в Приказ тайных дел, под пыткою покаялся, и был батогами бит нещадно, а сани сожгли.
Моторную лодку изобрел крепостной дядька Семен Петров и катал на той лодке по пруду троих человек свободно, но был за это высечен помещицей на конюшне и сослан в пастухи в дальнюю деревню. Такова же была судьба Анании Звонкова, построившего первую молотилку.
О первой паровой машине, отменно работавшей в Сибири в дни Екатерины Второй, можно прочитать подробное описание, с чертежами и вычислениями, в исторических журналах, — но в Европе об этом никто не знает.