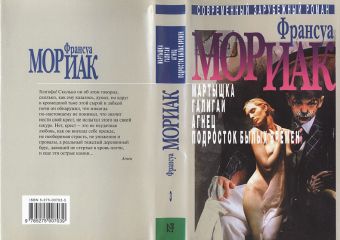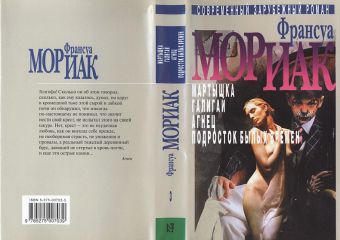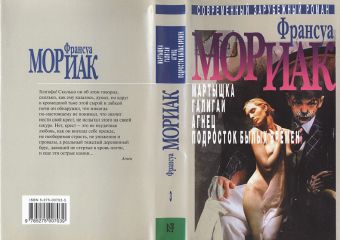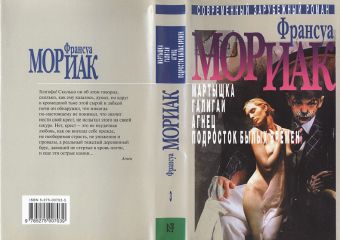— Больше всех на свете.
— Тогда в чем же дело? — взмолилась она.
Но он не сказал ей ни единого слова, не ответил ни единым жестом. Так стояли они в полутьме и не двинулись с места, даже когда в столовой раздался стук палки Бригитты Пиан. Старуха толкнула дверь библиотеки, ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что стоящих на расстоянии молодых людей неотвратимо тянет друг к другу.
— Долго же вы, однако, звоните по телефону, дитя мое.
— Мы разговаривали, — сказала Доминика.
— Но ведь чемоданы еще не уложены. Я не хочу, чтобы мы остались здесь ночевать. Пообедаем по дороге, если вы голодны.
Старуха не выглядела рассерженной и посторонилась, чтобы пропустить Доминику. Она повременила, пока девушка не прошла через столовую, и только тогда повернулась к Ксавье:
— Не знаю, право, что мне сказать вашей бедной матушке, потому что она наверняка будет спрашивать о вас.
Он различал смутные очертания задрапированного темной материей грузного тела и белесые пятна лба и щек. Он слышал сопение этой старой загнанной кобылы. Но все же — он это остро ощущал — она источала ледяной холод, она вся была гигантским сгустком ненависти.
— Подумать только, дорогая мадам Дартижелонг верит, будто я могу вам чем-то помочь, а вы вот до чего докатились...
Ксавье ничего не ответил этому существу без пола и возраста; он словно выпал из времени. Он тщетно пытался отделаться от трех слов из «Страстей господних», которые не шли у него из головы: «Jesus autem tacebat...»[9] И тоже молчал, в то время как Парка[10] изрекала заранее обдуманные фразы:
— Я полагаю, бедное дитя мое, что вы не случайно повстречали человека одних с вами склонностей и не случайно последовали за ним сюда. Я сомневаюсь, что он может причинить вам серьезный вред. Подумать только, что еще час назад я была полна тревоги на этот счет, но теперь у меня сложилось твердое убеждение — однако уверяю вас, я не поставлю об этом в известность вашу дорогую матушку, — что вам уже нельзя причинить никакого вреда. Жан и вы — вы оба источаете яд.
Она ждала от Ксавье каких-то слов, но он стоял молча, будто одинокое деревце в ночи.
— Правда, я увожу от вас предмет ваших воздыханий, быть может, без нее вам станет скучно и вы здесь не задержитесь. Но я возвращаюсь к своему вопросу: что мне сказать вашей бедной матушке?
— Правду, мадам Пиан, если вы ее знаете.
Старуха не ожидала такого ответа. Она двинулась было к двери, но остановилась:
— Несмотря на все, что я сказала, не приходите в отчаяние. Вы еще молоды, ничто не потеряно. Я буду молиться за вас.
Его упорное молчание теперь уже тревожило ее.
— В конце концов, я могу и ошибаться на ваш счет.
Он отвернулся. Бригитта Пиан вышла из комнаты ощупью, как слепая, прошла по столовой, потом вдруг повернула назад. Дверь библиотеки оставалась открытой. Она не сразу увидела Ксавье и удивилась, куда же он мог деваться. Ах, вот он! — эта темная масса на полу. Ксавье стоял на коленях, привалившись к столу и уперев лоб в руки. На его опущенные плечи, казалось, давила непомерная тяжесть.
— Самое ужасное, Мишель, самое ужасное из всего, что я сделал, что я хладнокровно задумал и уже стал осуществлять...
— Не рассказывай мне этого.
— Даже если бы я хотел рассказать, у меня, скорее всего, не нашлось бы слов. Когда я был на исповеди, я не сумел растолковать священнику, в чем дело... Ты знаешь, Мишель, я всегда ненавидел Ролана. Ты хотела его усыновить, потому что потеряла надежду стать матерью. Он был одновременно и живым упреком мне, и злой насмешкой. И вот Ксавье, покружившись около каждого из нас, именно на нем остановил свой окончательный выбор! Причем не по сердечной склонности, а лишь потому, что мальчишке угрожала та же участь, что и котятам, которых я утопил на другой день после нашего приезда сюда. Ради этого жалкого существа Ксавье отказался от своего земного счастья, отказался от Доминики, ради него он пожертвовал Доминикой... А я? Кем я был для него? Разве что одним из орудий его пытки. Я был частью его крестных мук. Пойми меня: дело тут не в ревности, свойственной и дружбе, и любви. Тут нечто совсем другое. И тогда я выдумал...
Он замолчал. Она надеялась, что он остановится. Но он заговорил вновь:
— Я не всегда понимаю причины своих поступков и почти ничего не делаю преднамеренно... Но в данном случае это было именно так. Ксавье видел в Ролане одну из тех невинных душ, чей ангел созерцает лик Господень. Так вот, я сделал вид, что считаю его нежность к мальчику... не смею тебе сказать... Я дал ему понять, что подозреваю его... Я преследовал его двусмысленными намеками. Помню, как на лице бедняги сперва отразился ужас, а потом смятение... Отодвинься от меня, пожалуйста.
Она на мгновение застыла, прижавшись губами к его шее.
— А я? А я? — сказала она. — Я до смерти ревновала его к Доминике. Как только я увидела Ксавье, мне захотелось любой ценой покорить его. Каждый мой взгляд, брошенный на него, был грешным... Впрочем, ты это знал, ты был моим сообщником. Я служила тебе приманкой, чтобы увлечь его, чтобы удержать его здесь...
Он зажал ей рот ладонью. Они долго молчали. Вдруг Жан сказал:
— Знаешь, что мне сейчас пришло в голову: наверно, он больше всего страдал оттого, что его появление в Ларжюзоне вызвало такой взрыв темных страстей, что он погубил всех, кого хотел спасти.
— Если только он не знал — а ведь он все всегда знал наперед, — что каждый из нас должен пройти этот путь, чтобы обрести душевный покой, именно этот путь, а не другой.
Жан протянул руку и зажег свет.
— Погляди на меня, Мишель, — сказал он. — Поглядим друг на друга. Как ты смеешь говорить, что мы обрели покой? Подумай, во что превратилась наша жизнь с тех пор, как его не стало!
Она села на кровати. Она вздохнула.
— Мы страдаем, но мы не опустошены, как прежде. Ты сам это признаешь. Он отдал тебе свою жизненную силу. Разве не так?
Жан помолчал, потом сказал шепотом:
— Да, это правда. Да, я никогда не страдал так, как сейчас, и все же я обрел душевный покой, хотя никогда прежде его не знал; в детстве скотина опекун бил меня смертным боем, а однажды я застал свою обожаемую мать...
На этот раз Мишель закрыла ему рот ладонью.
— Ты веришь в то, во что верил Ксавье? — спросила она.
Он не стал отрицать.
— Да, Мишель. Теперь я знаю, что в этом мире существует любовь. Но она распята, эта любовь, и мы вместе с нею.
Жан вошел в комнату Мишель. Она вязала у почти прогоревшего камина, укутавшись в шаль, — вот так, наверно, она будет выглядеть, когда состарится.
— Уже совсем темно. Зажечь лампу? Нет. Чтобы вязать, света хватает.
— Ну вот, — сказал он. — Чемоданы сложены. Сейчас придет машина.
Мишель не подняла головы. Она спросила:
— А он?
Жан сделал неопределенный жест рукой:
— По-моему, он останется.
Мишель опустила вязанье на колени и, сосредоточенно глядя на огонь, прошептала:
— Отпусти его. Он привез тебя, больше он ничего сделать не может.
— Если он останется, — мрачно сказал Мирбель, — то не ради нас. Если он останется...
— То ради Ролана?.. Ты думаешь?
— Зачем ты меня об этом спрашиваешь, если сама знаешь?
Она не ответила и снова взялась за вязание. Оба долго молчали.
— Если бы еще это был симпатичный мальчишка, ведь столько детей, которых так и хочется расцеловать!..
Мирбель пожал плечами.
— Даже эти милые дети в конце концов всегда оборачиваются ревущими обезьянами...
— Да, может, ты и прав, — вздохнула Мишель. — Чужие дети...
Он вскочил, опрокинув стул, и подошел к темному окну.
— Вот и машина, — сказал он. Мотор работал с перебоями. Они услышали, как Доминика крикнула из окна шоферу, чтобы он поднялся за вещами.
— Выйдем?
Мишель встала; Жан был в нерешительности: идти или нет? «Мы ведь такого друг другу наговорили...» И тут до них донесся из прихожей душераздирающий вой смертельно раненного зверя.
— Это Ролан! Ну что за ребенок!
Мирбель побежал вниз, но остановился на повороте лестницы и перегнулся через перила. Мальчик обхватил обеими руками ноги Доминики, прижался к ней.
— Хочу уехать с вами, возьмите меня с собой! — Он лягал Ксавье, пытавшегося его оттащить. Бригитта Пиан, уже сидевшая в машине, не обращала ни малейшего внимания на эту сцену. А когда Ксавье в который раз повторил: «Но я же остаюсь», — мальчик вдруг заорал в приступе бешенства:
— Вы! На кой вы мне сдались!
Он оторвался от Доминики, повернул к Ксавье свое искаженное ненавистью личико: