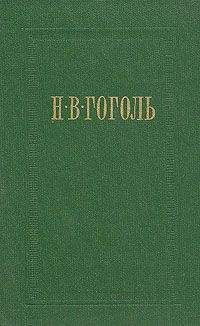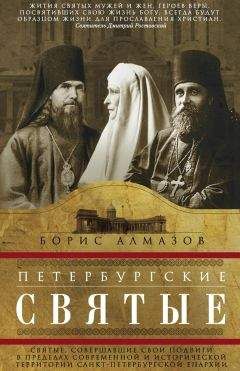И вот представилась мне во сне такая картина.
Сидим мы будто у стола, как и раньше, и вдруг катится, замечаем, по полу темненькое и мохнатенькое. Докатилось оно до Егора Саввича и — прыг ему на колени, а беспалый нахально хохочет. И вдруг слышим мы ижехерувимское пение и деточка будто такая маленькая в голеньком виде всходит и передо мной во фронт становится и честь мне делает ручкой.
А я будто оробел и говорю:
— Чего, говорю, тебе, невинненькая деточка нужно? Ответьте мне для ради бога.
А она будто нахмурилась, невинненьким пальчиком указует на беспалого.
Тут я и проснулся. Проснулся и дрожу. Сон, думаю, в руку. Так я об этом и знал. Дошел я тихоньким образом до Егор Саввича, сам шатаюсь.
— Что, — вспрашиваю, — жив ли, говорю?
— Жив, — говорит, — а что такоеча?
— Ну, — говорю, — обними меня, я твой спаситель, буди мужиков, вязать нужно беспалого сибирского преступника.
Разбудили мы мужиков, стали вязать беспалого, а он, гадюка, — представляется, что не в курсе дела.
Ну, слово за слово, улики я против него собрал, портсигарчик тоже нашел, а он перешептался, может быть, с мужичками, подкупил их, наверно, и вышло тут дельце совершенно темное. Сами же мужички на меня насели.
— Ступай, — говорят, — лучше из нашей губернии. Ты, говорят, только людей смущаешь, сучье мясо. Человек — это вполне прелестный человек. Заграничный продавец. Он для нас же, дураков, дело делает — спиртишко из-за границы носит.
— Ну, — говорю, — драться — вы не деритесь. Вы есть темные людишки и обижаться мне на вас нечего. Обольстила вас беспалая жаба, ну, да мне видение мое сонное вполне дороже.
Собрал я свое барахлишко и пошел.
А очень тут рыдал Егор Саввич. Проводил он меня верст аж за двадцать от гиблого места и все рассказывал разные разности.
Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он Старостину лошадь купчику уторговывал. Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал.
— Конь-то каков, господин купчик! Королевский конь. Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать. Ей-богу, моя правда. Ну, а тут вижу — человек хороший. Хорошему человеку и продать не стыдно. Особенно если купчику благородному.
Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая — росту маленького и сама пузатая.
— А зубы-то… Зубы-то, господин купчик, каковы! Ведь это же, взгляните, королевские зубы.
Гришка приседал на корячки, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже наземь ложился под брюхо лошади. И хвалил брюхо. А купчик медлил и спрашивал:
— Ну, а она, боже сохрани, не краденая?
— Краденая? — обижался Гришка. — Эта-то лошадь краденая? У краденой лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь завсегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый, королевский взор. И масть у ней королевская.
— Да ты много не рассусоливай, — сказал купчик. — Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи: краденая, мол, лошадь. А то ходит тут, говорят — вор и конокрад Гришка Жиган… Так уж не ты ли это и будешь. А? Как звать-то тебя?
— Это меня-то? Гришей меня зовут. Это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь… А зовут, да, Гришей зовут. Могу и пачпорт вам показать… Ну, что же, берете коня-то? Королевский конь. Ей-богу, моя правда.
А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару.
— Вот он, — тонко завыл староста, — вот он, собачий хвост, вор и конокрад — Гришка Жиган. Бейте его, людишки добрые!
Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает, бежать нельзя. Поймают и сразу бить будут. А сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так — вор, а не бежит и даже из рук не рвется. Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжой скрутили. А в городе бить человека неловко.
— Волоките его за город, — сказал староста, — покажем ему вору, сукиному сыну, как чужих коней уворовывать.
Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.
— Буде! — остановился Фома Хромой. И пиджак скинул.
— Начнем, братишки.
Видит Гришка, дело его плохое: бить сейчас будут. А вора-конокрада бьют мужички до смерти — такой закон.
— Братцы, — сказал Гришка, — а чья земля эта будет? Земля-то ведь эта казенная будет. Нельзя здесь меня бить. Такого и закону нет, чтоб на казенной земле человека били. И вам до суда дело, и мне вред.
Староста согласился.
— Это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти убьем человека. Волокнем его, братишки, на село. Там и концы в воду.
Повели Гришку на село.
— Братцы, — тихо спросил Гришка, — за что бить-то будете? Под суд меня вора и конокрада надобно. Суд дело разберет. Да только каждый суд оправдает меня. Любой суд на лошадь взглянет и оправдает. Скверная лошаденка, шут с ней совсем. От нее и радости-то никакой нет.
— Да что ж это он, — удивился староста, — что ж это он, православные, лошадь-то мою хает? Этакая чудная лошадь, а он хает… Ты что ж это, хвост собачий, лошадь мою хаешь?
— Ей-богу, моя правда, — сказал Гришка. — Поступь у ней, посмотрите, какая. На такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь — она, дура такая, задом крутит. Шут ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти: грыжа, например, болезнь… От села до базара четыре версты, всякий знает, а у меня пот градом — измучила совсем чертова анафема. Так и крутит задом, так и крутит… Да я вам даже показать могу…
Фома Хромой подошел к Гришке и ударил его.
— Чего зубы-то заговариваешь, сука старая. Если ты есть вор, так и веди себя правильно. Не заговаривай.
Повели Гришку дальше. Уже и село близко — церковь видна.
— Братцы, — смиренно сказал Гришка, — а, братцы… А ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету.
Мужики шли молча.
— Вот что, — опять начал Гришка, — ходит тут такой юродивый блаженненький Иванушка-братец… Не я, а он эти слова говорит. «Да, — говорит, — будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихорь».
— Да ну? — тихо удивился Фома Хромой. — Врешь?
— Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он и число назначил. Какое у нас число сегодня?
— Осьмое число, — ответили мужики.
— Осьмое. Правильно. Ну, а тут на девятое назначено. Завтра, значит, и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихорь и град падет на землю, и град сей будет крупнейший, с яйцо с куриное и даже больше… И будет бить этот град все насквозь. И человека, и скот домашний — корову, например, или курицу…
— И железо? — спросил староста. — Крыша у меня если, скажем, железная?
— Драгоценные есть ваши слова, — сказал Гришка, — и железо.
Мужики остановились.
— Ну, а попа, — спросил кто-то, — может ли, например, поп уцелеть?
— Нет, — ответил Гришка, — и поп не может уцелеть…
— А ведь это верно, — раздумчиво сказал Фома Хромой, — ходила тут схимонашенка такая… Подтверждала эти слова. Только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила. А землетрясение — это верно. И вихорь огненный.
— Ну, а что же, — спросили мужики Гришку, — что же такое делать, если, например, кто спастись хочет?..
— Да врет он, — вдруг закричал староста. — Врет ведь, собачий хвост. Зубы дуракам заговаривает. Бейте его, людишки добрые!
Мужички не двигались.
— Нельзя бить, — строго сказал Фома Хромой. — Обождать нужно. Обождем до завтра, братишки. Убить человека завсегда не поздно… Только про град-то он врет, собачий хвост. Ничего схимонашенка про такое не говорила.
— Безусловно врет, — сказал староста, — ей-богу, врет. И про железо врет.
— Так завтра что ли, Гриша, обещаешь ты? — спросил Фома Хромой.
— Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихорь, и град падет на землю, и град сей…
— Ладно, — сказали мужички, — обождем до завтрева.
Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили.
К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на Старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали.
А у Фомы Хромого народу собралось множество. Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое:
— Если б не эта схимонашенка, да я бы первый сказал, врет он, собачий хвост. Ну, а тут схимонашенка… У кого еще была схимонашенка?
— У меня, Фома Васильич, была. У меня и есть, — сказала баба простоволосая, — к вечеру сижу я преспокойно… Стучит ктой-то…
— Да, — перебил Фома Хромой, — небо пожелтеет, настанет вихорь…
Назавтра мужички в поле не вышли. А день был ясный. Ходили мужички по селу, на Старостин двор заходили и пересмеивались.