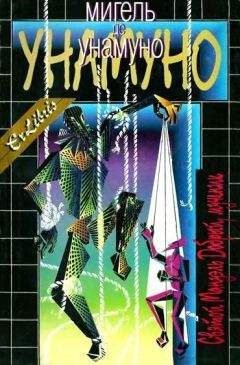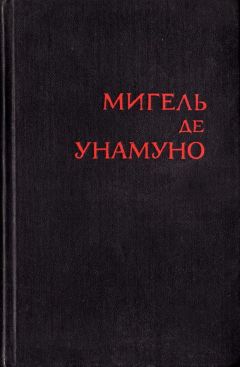Почти все эти дни я провалялся в постели – и не столько по причине нездоровья, сколько потому, что лежа я полнее наслаждался своим вынужденным одиночеством. Большую часть времени я дремал и в этом состоянии между бодрствованием и сном не всегда мог различить, то ли мне снится гора, видная из моих окон, то ли я вижу наяву дона Сандальо, которого здесь нет.
Представь себе, дон Сандальо, мой дон Сандальо – вот кто снился мне неотступно во время болезни. Мне грезилось, что за эти дни с ним что-то произошло, что-то изменилось в его жизни и, когда я вновь встречусь с ним в казино и мы вновь сядем за шахматы, я не найду в нем прежнего дона Сандальо.
И вместе с тем меня тревожило, думает ли он обо мне, недостает ли ему моего общества, не нашел ли он себе среди завсегдатаев казино другого партнера – другого! – с которым играет в шахматы, осведомляется ли он обо мне, существую ли я для него?
Мне даже привиделся кошмар: дон Сандальо в обличье страшного черного коня – очевидно, шахматного – слетает откуда-то сверху, чтобы меня сожрать, а я, несчастный белый слон, бедный полоумный епископ, по-слоновьи неуклюжий, связан в это время защитой своего короля. Я очнулся от кошмара, когда забрезжил рассвет, со стеснением в груди. Испугавшись, стал поспешно делать глубокие вдохи и выдохи и легкий массаж, чтобы взбодрить сердце, которое доктор Касануэва находит несколько изношенным. После чего я принялся наблюдать в бинокль, как лучи восходящего солнца отражаются в брызгах водопада, низвергающегося с горы против моих окон.
Посылаю тебе всего несколько строк на открытке. Вышел прогуляться по пустынному пляжу. Он выглядел еще более пустынным от присутствия юной девушки, бредущей по кромке песка, на которую накатывали волны. И мочили ей ноги. Я наблюдал за ней так, чтобы она меня не видела. Она достала какое-то письмо, прочла его и опустила руки, крепко державшие листок; потом снова подняла руки к лицу и перечитала письмо; затем, тщательно сложив его несколько раз, разорвала на мелкие клочки и побрела дальше, бросая по одному клочок за клочком, и ветер подхватывал их – бабочек забвенья – и уносил в море. Покончив с этим, она вынула платок, заплакала и стала вытирать платком слезы. Морской ветер быстро стер с ее лица их следы. Вот и все.
То, о чем я намерен тебе поведать, мой дорогой Фелипе, столь неслыханно и столь невероятно, что вряд ли нечто подобное могло прийти в голову самому изобретательному новеллисту. Это докажет тебе, насколько был прав наш друг, прозванный нами Пепе Галисиец,[14] когда он, переводя какой-то труд по социологии, говорил нам: «Терпеть не могу этих нынешних книг по социологии; вот перевожу одну такую о первобытном браке: автор ее знай вертится вокруг рассуждений о том, что если у ирокезов брачный обряд имеет такие-то и такие-то отличия, то у кафров они совсем другие… И все в том же духе. Прежде книги писались просто с помощью слов, ныне же они заполнены тем, что именуется фактами или документами; но чего я в них не вижу, так это мыслей. Я, со своей стороны, случись мне изобрести какую-нибудь социологическую теорию, стал бы основывать ее на фактах, мною же самим выдуманных, ибо уверен вполне, что сколько бы ни было невероятно выдуманное человеком, оно либо некогда уже сбылось, либо сбывается, либо сбудется впредь». И как же был прав наш добрый Пепе.
Однако перейдем к факту, или, если хочешь, событию.
Едва я немного окреп и покинул свое уютное ложе, то, как и следовало ожидать, поспешил в казино. Меня влекло туда – и ты не ошибешься, предположив это, – желание вновь встретиться с доном Сандальо и возобновить с ним наши шахматные баталии. Однако своего партнера я в казино не нашел. Хотя обычно он там бывал именно в эти часы. Спрашивать о нем мне никого не хотелось.
Все же, подождав немного, я не выдержал, взял шахматы и, вытащив газету с помещенной в ней шахматной задачей, принялся за ее решение. В эту минуту ко мне подошел кто-то из зрителей и спросил, не желаю ли я сыграть с ним партию. На мгновенье заколебавшись, я хотел было отказаться, усмотрев в этом измену моему дону Сандальо, но потом согласился.
Завсегдатай казино, только что бывший зрителем и ставший моим партнером, оказался из числа игроков, решительно неспособных хранить молчание. Он вслух объявлял каждый свой ход, комментировал его, сопровождал всякого рода присловьями, а в промежутках напевал какую-нибудь песенку. Это было невыносимо. И сколь непохоже на серьезную, сосредоточенную и молчаливую игру дона Сандальо!
(Дойдя до этого пассажа, я подумал, что, если бы автор этих писем писал их сейчас, в 1930 году, он, без сомнения, сравнил бы игру дона Сандальо с немым кинематографом, выразительным и зрелищным, а игру нового партнера – с кинематографом звуковым. И тогда партии с ним можно было бы именовать звуковыми, или, лучше, трезвонными.)
Я сидел как на горячих угольях, но не осмеливался предложить ему замолчать. Не знаю, догадался ли мой партнер, что он раздражает меня, или нет, однако, сыграв две партии, объявил, что должен уйти. На прощанье он неожиданно пронзил меня словами:
– Вы уже, без сомнения, слышали о доне Сандальо?
– Нет, а что именно?
– А то, что его посадили в тюрьму.
– В тюрьму? – воскликнул я в изумлении.
– Ну да, в тюрьму! Вы подумайте только… – начал он.
Я резко прервал его:
– Нет, нет, я не хочу ничего знать!
И, едва простившись со своим партнером, я покинул казино.
«Дон Сандальо в тюрьме! – повторял я про себя. – В тюрьме! Но почему?» Однако, что бы ни привело его туда, какое мне до этого дело? Я ведь не захотел ничего знать о его сыне, когда тот умер, и мне незачем знать теперь, почему сам дон Сандальо угодил в тюрьму. Меня это не касается. Да и его там, судя по всему, тоже не слишком заботит, как я здесь отнесусь к случившемуся с ним. И все же это непредвиденное происшествие совершило переворот в моей душе. «С кем отныне я сыграю партию в шахматы, спасаясь от неизлечимой глупости людей?»
Порой меня одолевает желание разузнать, не содержится ли дон Сандальо в одиночной камере, и, если нет и если с ним разрешены свидания, отправиться в тюрьму и просить позволения каждодневно играть с ним в шахматы – разумеется, без того, чтобы дознаваться, как и за что он попал в тюрьму, и вести об этом разговоры. Но как знать, не играет ли он уже каждодневно в шахматы с кем-либо из заключенных?
Как ты можешь вообразить, все происшедшее смутило, и не на шутку, покой моего одиночества.
Спасаясь от казино, города, общества людей, придумавших тюрьмы, я отправился в лес, стараясь держаться как можно дальше от шоссейной дороги. Да, как можно дальше, ибо растущие вдоль нее несчастные деревья, превращенные в рекламные тумбы, которые тоже кажутся узниками или обитателями богадельни, что, собственно, почти одно и то же, и все эти щиты, рекламирующие всякого рода товары: одни – сельскохозяйственное оборудование, другие – их больше – ликеры или шины для автомобилей, снующих туда-сюда по шоссе, – все это возвращает меня в общество людей, неспособных жить без кандалов, наручников, цепей, решеток и одиночных камер. Заметим мимоходом, что некоторые из этих орудий принуждения именуются ласково «женушки» и «кузнечики».[15]
Я бродил по лесу, минуя тропинки, истоптанные чужими ногами, сторонясь человечьих следов, шурша сухими листьями – они уже опадают, – и так дошел до развалин старой усадьбы, о которой уже рассказывал тебе, где разрушенный очаг ныне увит плющом и в его листве гнездятся птицы. Кто знает, в те времена, когда усадьбу еще наполняла жизнь, когда трещал дровами очаг и в нем поспевала похлебка, не висела ли поблизости у очага клетка, где порой распевал узник-щегол?
Присев среди развалин на квадратный камень, я вновь погрузился в раздумья о доне Сандальо, о том, был ли у него семейный очаг и служил ли ему таковым его дом, где, как известно, он жил с покойным сыном, и, может статься, не с ним одним, но и с кем-то еще, предположим, с женой. Женат ли он? Жива ли его жена? Или он вдовец? И почему я думаю обо всем этом, зачем пытаюсь разгадывать эти загадки, представляющие собой подобие шахматных задач из тех, что мне, увы, не предлагает игра моего бытия?
Да, мне она их не предлагает… Ты ведь знаешь, Фелипе: вот уже много лет, как я лишился семейного очага; мой очаг разрушен, и даже копоть камина рассеялась в воздухе; ты знаешь, что эта утрата навсегда вселила в меня отвращение к человеческой глупости. Робинзон Крузо был одинок, и одинок был Гюстав Флобер, не выносивший людского скудоумия; одиноким я воображаю себе дона Сандальо, и сам я одинок. А все, кто одинок, Фелипе, мой Фелипе, все они – узники, все они заключены в темницу своего одиночества, хоть и живут на свободе.