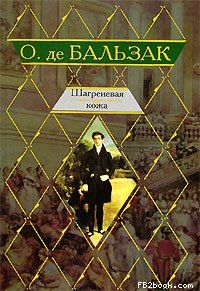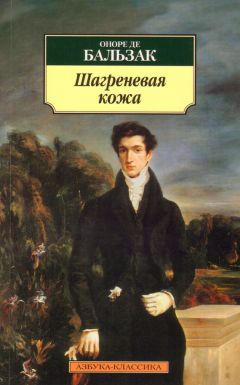— Ах, если бы ты знал мою жизнь!
— Ах! — воскликнул Эмиль. — Я не думал, что ты так вульгарен. Ведь это избитая фраза. Разве ты не знаешь, что каждый притязает на то, что он страдал больше других?
— Ах! — вздохнул Рафаэль.
— Твое «ах» просто шутовство! Ну, скажи мне: душевная или телесная болезнь принуждает тебя каждое утро напрягать свои мускулы и, как некогда Дамьен[44], сдерживать коней, которые вечером раздерут тебя на четыре части? Или ты у себя в мансарде ел, да еще без соли, сырое собачье мясо? Или дети твои кричали: «Есть хотим»? Может быть, ты продал волосы своей любовницы и побежал в игорный дом? Или ты ходил по ложному адресу уплатить по фальшивому векселю, трассированному мнимым дядюшкой, и притом боялся опоздать?.. Ну, говори же! Если ты хотел броситься в воду из-за женщины, из-за опротестованного векселя или от скуки, я отрекаюсь от тебя.
Говори начистоту, не лги; исторических мемуаров я от тебя не требую.
Главное, будь краток, насколько позволит тебе хмель; я требователен, как читатель, и меня одолевает сон, как женщину вечером за молитвенником — Дурачок! — сказал Рафаэль. — С каких это пор страдания не порождаются самой нашей чувствительностью? Когда мы достигнем такой ступени научного знания, что сможем написать естественную историю сердец, установить их номенклатуру, классифицировать их по родам, видам и семействам, разделить их на ракообразных, ископаемых, ящеричных, простейших… еще там каких-нибудь, — тогда, милый друг, будет доказано, что существуют сердца нежные, хрупкие, как цветы, и что они ломаются от легкого прикосновения, которого даже не почувствуют иные сердца-минералы…
— О, ради бога, избавь меня от предисловий! — взяв Рафаэля за руку, шутливым и вместе жалобным тоном сказал Эмиль.
Рафаэль немного помолчал, затем, беззаботно махнув рукою, начал:
— Не знаю, право, приписать ли парам вина и пунша то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь, словно единую картину с верно переданными фигурами, красками, тенями, светом и полутенью. Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась своего рода презрением к моим былым страданиям и радостям. Я как будто гляжу на свою жизнь издали, и, под действием какого-то духовного феномена, она предстает передо мною в сокращенном виде. Та долгая и медленная мука, что длилась десять лет, теперь может быть передана несколькими фразами, в которых сама скорбь станет только мыслью, а наслаждение — философской рефлексией. Я высказываю суждения, вместо того чтобы чувствовать…
— Ты говоришь так скучно, точно предлагаешь пространную поправку к закону! — воскликнул Эмиль.
— Возможно, — безропотно согласился Рафаэль. — Потому-то, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых семнадцати годах моей жизни. До тех пор я жил — как и ты и как тысячи других — школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. Право, по тем овощам, которые нам тогда подавали каждую пятницу, мы, пресыщенные гастрономы, тоскуем так, словно с тех пор и не пробовали никаких овощей. Прекрасная жизнь, — на ее трудности мы смотрим теперь свысока, а между тем они-то и приучили нас к труду…
— Идиллия!.. Переходи к драме, — комически-жалобным тоном сказал Эмиль.
— Когда я окончил коллеж, — продолжал Рафаэль, жестом требуя не прерывать его, — мой отец подчинил меня суровой дисциплине. Он поместил меня в комнате рядом со своим кабинетом; по его требованию я ложился в девять вечера, вставал в пять утра; он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом; я ходил на лекции и к адвокату; однако законы времени и пространства столь сурово регулировали мои прогулки и занятия, а мой отец за обедом требовал от меня отчета столь строго, что…
— Какое мне до этого дело? — прервал его Эмиль.
— А, черт тебя возьми! — воскликнул Рафаэль. — Разве ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго потом не мог отрешиться от юношеской наивности? Итак, до двадцати одного года я жил под гнетом деспотизма столь же холодного, как монастырский устав. Чтобы тебе стало ясно, до чего невесела была моя жизнь, достаточно будет, пожалуй, описать моего отца. Высокий, худой, иссохший, бледный, с лицом узким, как лезвие ножа, он говорил отрывисто, был сварлив, как старая дева, придирчив, как столоначальник. Над моими шаловливыми и веселыми мыслями всегда тяготела отцовская воля, покрывала их как бы свинцовым куполом; если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство, он обращался со мной, как с ребенком, который сейчас скажет глупость; я боялся его гораздо больше, чем, бывало, боялись мы наших учителей; я чувствовал себя в его присутствии восьмилетним мальчиком.
Как сейчас вижу его перед собой. В сюртуке каштанового цвета, прямой, как пасхальная свеча, он был похож на копченую селедку, которую завернули в красноватую обложку от какого-нибудь памфлета. И все-таки я любил отца; в сущности, он был справедлив. Строгость, когда она оправдана сильным характером воспитателя, его безупречным поведением и когда она искусно сочетается с добротой, вряд ли способна вызвать в нас злобу. Отец никогда не выпускал меня из виду, до двадцатилетнего возраста он не предоставил в мое распоряжение и десяти франков, десяти канальских, беспутных франков, этого бесценного сокровища, о котором я мечтал безнадежно, как об источнике несказанных утех, — и все же отец старался доставить мне кое-какие развлечения. Несколько месяцев подряд он кормил меня обещаниями, а затем водил в Итальянский театр, в концерт, на бал, где я надеялся встретить возлюбленную. Возлюбленная! Это было для меня то же, что самостоятельность.
Но, застенчивый и робкий, не зная салонного языка, не имея знакомств, я всякий раз возвращался домой с сердцем, все еще не тронутым и все так же обуреваемым желаниями. А на следующий день, взнузданный отцом, как кавалерийский конь, я возвращался к своему адвокату, к изучению права, в суд. Пожелать сойти с однообразной дороги, предначертанной отцом, значило навлечь на себя его гнев; он грозил при первом же проступке отправить меня юнгой на Антильские острова. И как же я трепетал, иной раз осмеливаясь отлучиться на часок-другой ради какого-нибудь увеселения! Представь себе воображение самое причудливое. сердце влюбчивое, душу нежнейшую и ум самый поэтический беспрерывно под надзором человека, твердокаменного, самого желчного и холодного человека в мире, — словом, молодую девушку обвенчай со скелетом — и ты постигнешь эту жизнь, любопытные моменты которой я могу только перечислить; планы бегства, исчезавшие при виде отца, отчаяние, успокаиваемое сном, подавленные желания, мрачная меланхолия, рассеиваемая музыкой. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими верными наперсниками часто бывали Бетховен и Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, которые смущали мою совесть в ту невинную и добродетельную пору. Переступи я порог ресторана, я почел бы себя расточителем; мое воображение превращало для меня кофейни в притон развратников, в вертеп, где люди губят свою честь и закладывают все свое состояние; а что касается азартной игры, то для этого нужны были деньги. О, быть может, я нагоню на тебя сон, но я должен рассказать тебе об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о хищной радости, впивающейся в наше сердце, как раскаленное железо в плечо преступника! Я был на балу у герцога де Наваррена, родственника моего отца.
Но чтобы ты мог ясно представить себе мое положение, я должен сказать, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы вволю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал — до того поразил меня этот акт доверия, — он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня шла игра в карты. Я слышал, как позвякивало золото. Мне было двадцать лет, мне хотелось хоть на один день предаться прегрешениям, свойственным моему возрасту. То было умственное распутство, подобия которому не найдешь ни в прихотях куртизанок, ни в сновидениях девушек. Уже около года я мечтал, что вот я, хорошо одетый, сижу в экипаже рядом с красивой женщиной, разыгрываю роль знатного господина, обедаю у Вэри, а вечером еду в театр и возвращаюсь домой только на следующий день, придумав для отца историю более запутанную, чем интрига «Женитьбы Фигаро», — и он так ничего и не поймет в моих объяснениях. Все это счастье я оценивал в пятьдесят экю. Не находился ли я все еще под наивным обаянием пропущенных уроков в школе? И вот я вошел в будуар, где никого не было, глаза у меня горели, дрожащими пальцами я украдкой пересчитал деньги моего отца: сто экю! Все преступные соблазны, воскрешенные этой суммой, заплясали предо мною, как макбетовские ведьмы вокруг котла, но только обольстительные, трепетные, чудные! Я решился на мошенничество. Не слушая, как зазвенело у меня в ушах, как бешено заколотилось сердце, я взял две двадцатифранковые монеты, — я вижу их как сейчас! На них кривилось изображение Бонапарта, а год уже стерся. Положив кошелек в карман, я подошел к игорному столу и, зажав в потной руке две золотые монеты, стал кружить около игроков, как ястреб над курятником. Чувствуя себя во власти невыразимой тоски, я окинул всех пронзительным и быстрым взглядом.