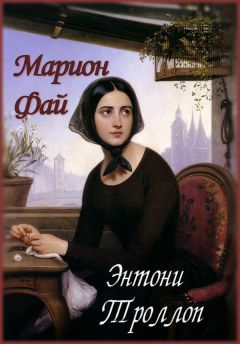— Я пришел, — сказал он, — сказать лорду Кинсбёри, что я влюблен в его дочь.
При этих словах толстенький человечек в изумлении поднял обе руки, хотя он уже ранее объяснил, что все обстоятельства ему известны.
— И я счел бы долгом прибавить, — сказал Роден, вооружаясь всем своим мужеством, — что молодая девушка также меня любит.
— О, о, о! — Руки поднимались все выше и выше при этих восклицаниях.
— Отчего же нет? Разве правда не всего дороже?
— Молодой человек, мистер Роден, никогда не должен хвастать привязанностью молодой девушки; в особенности, когда я даже не могу допустить, чтоб подобная привязанность существовала, — и еще менее в доме ее отца.
— Никто не должен ничем хвастать, мистер Гринвуд. Я говорю о факте, ознакомиться с которым отцу необходимо. Если молодая особа опровергнет это, я замолчу.
— Деликатность требует, чтоб молодой девушке на этот счет не предлагалось никаких вопросов. После того, что случилось, нечего и думать о том, чтоб ваше имя даже было произнесено в присутствии молодой лэди.
— Отчего? Я намерен жениться на ней.
— Намерены! — Слово это мистер Гринвуд, в своем крайнем ужасе, выкрикнул во все горло. — Мистер Роден, мой долг уверить вас, что вам ни при каких обстоятельствах не удастся снова увидеть молодую особу.
— Кто это говорит?
— Маркиз, маркиза, маленькие братья леди Франсес, которые, как только наберутся сил, защитят ее от всего дурного.
— Надеюсь, что их силы не понадобятся ни для каких подобных целей. Если бы это случилось, я уверен, они исполнят свою братскую обязанность. В данном случае им не предстояло бы особенного дела. — Мистер Гринвуд покачал головой. Он продолжал стоять не сдвинувшись ни на один дюйм с места, на котором стоял, когда дверь отворили. — Вижу, мистер Гринвуд, что всякий дальнейший разговор между нами об этом предмете совершенно бесполезен.
— Совершенно бесполезен, — сказал мистер Гринвуд.
— Но честь моя и цель требуют, чтоб лорд Кинсбёри узнал, что я приходил просить руки его дочери. Я не смел ожидать, чтоб он благосклонно принял мое предложение.
— Нет, нет; едва ли это возможно, мистер Роден.
— Но необходимо было, чтоб он узнал о моем намерении от меня самого. Теперь оно несомненно так и будет. Он, насколько я понял из ваших слов, знает о моем присутствии здесь. — Мистер Гринвуд покачал головой, точно желая дать понять, что этого вопроса он более обсуждать не может.
— Если нет, мне придется обеспокоить милорда письмом.
— Это будет бесполезно.
— Следовательно, знает? — Мистер Гринвуд кивнул головой.
— И вы ему потрудитесь передать, зачем я приходил?
— Маркиз будет ознакомлен с характером свидания.
Тут Роден повернулся, чтоб выйти из комнаты, но был вынужден попросить мистера Гринвуда показать ему дорогу по коридорам. Священник это исполнил, он быстро шел впереди, маленькими шагам, на носках, пока не сдал незваного гостя привратнику. Исполнив это, он сделал прощальный поклон и поспешно возвратился в свою комнату. Роден вышел, думая при этом, что много еще воды утечет прежде, чем он будет принят в этом доме, как желанный зять. На возвратном пути в Голловей он снова все обдумал. Как могло все это кончиться, кончиться благоприятно для него и для любимой им девушки? Отвращение к нему, выраженное через посредство мистера Гринвуда, было естественно. Следовало ожидать, что человек в условиях маркиза Кинсбёри будет всячески стараться держать дочь подальше от такого обожателя. Разве он не сочтет необходимым так поступить хотя бы в виду одних денежных соображений? Всевозможные препятствия будут воздвигнуты на его пути. На его стороне не будет ничего, кроме любви девушки к нему. Можно ли ожидать, что ее любовь будет достаточно сильна, чтоб победить такие препятствия? А если б и так, добьется ли она собственного счастия, держась на эту любовь? Он сознавал, что в его настоящем положении для него нет более святого долга как заботиться о счастии женщины, которую он желал видеть своей женой.
Очень скоро после этого в Парадиз-Роу было получено письмо от лэди Франсес, — единственное письмо, которое Роден получил от нее в этот период их романа. Отрывок из письма будет приведен ниже; из него читатель увидит, какие затруднения возникли в Кенигсграфе относительно их переписки. Он писал два раза. Первое письмо своевременно попало в руки молодой девушки, так как было обычным порядком доставлено с деревенской почты и вручено ей собственной горничной. Когда второе достигло замка, оно попало в руки маркизы. Она, правда, приняла меры, чтоб оно попало ей в руки. Она знала о получении первого письма, и была поражена ужасом при мысли о подобной переписке. Она не получала от мужа прямого полномочия по этому предмету, но сознавала, что для нее самой обязательно принять энергические меры. Нельзя было допустить, чтоб лэди Франсес получала любовные письма от почтамтского клерка! Что касается самой лэди Франсес, маркиза охотно бы согласилась выдать ее за почтальона, если б этим путем можно было окончательно от нее отделаться, так, чтобы свет не знал, что существует или существовала лэди Франсес. Но факт этот был очевиден, как не менее был очевиден печальный, слишком печальный факт существования брата, который был старше ее собственных красивых деток. По мере того, как чувство ненависти возрастало в ней, она постоянно уверяла себя, что была бы самой нежной мачехой, если б эта пара умела держать себя как подобает сыну и дочери маркиза. Видя, что они такое, и что такое ее собственные дети, как старшие силятся отречься от того сословия, для украшения и защиты которого предназначены ее родные детки, разве не естественно, что она ненавидела этих старших и признавалась самой себе, что желала бы, чтоб они сошли у нее с дороги? Столкнуть их с дороги было нельзя, но лэди Франсес во всяком случае можно было обуздать. А потому она решилась запретить переписку.
Она задержала второе письмо, и сообщила дочери о своем поступке.
— Папа не говорил, чтоб мне не передавать моих писем, — убеждала леди Франсес.
— Отец твой ни минуты не думал, чтоб ты согласилась на что-нибудь до такой степени неприличное.
— В этом нет ничего неприличного.
— Предоставь мне судить об этом. Теперь ты на моей ответственности. Отец твой, когда возвратится, может поступать как ему угодно.
Произошел длинный спор, окончившийся победой маркизы. Молодая девушка, когда ей было объявлено, что, в случае необходимости, деревенской почтмейстерше будет приказано не отправлять никаких писем, адресованных на имя Джорджа Родена, — поверила в силу угрозы. Она также была уверена, что ей не удастся добраться ни до каких писем, адресованных на ее имя, если маркиза пустит в ход свою quasi-родительскую власть, чтоб этому воспрепятствовать. Она уступила, под условием однако, чтоб одно письмо было отправлено; и маркиза, которая вовсе не была уверена, что ее инструкции подействуют на почтмейстершу, согласилась на это.
Нежный тон письма читатели угадают и не видя его. Оно было очень нежно, полно обещаний и доверия. Затем следовал коротенький параграф, в котором она объясняла собственное неприятное положение:
«Надо вам сказать, что было получено одно письмо, которого мне не показали. Не знаю, распечатала ли его мама, или уничтожила. Хотя я не видала его, я принимаю его за доказательство вашей доброты и верности. Но для вас будет бесполезно писать мне еще, пока вы не получите от меня известия; я также обещала, что это, до поры до времени, будет мое последнее письмо к вам. Последнее и первое! Надеюсь, что вы сохраните его до получения другого, с тем, чтоб у вас было хоть что-нибудь, что говорило бы вам, как горячо я вас люблю».
Отсылая письмо, она не знала, какое великое утешение заключается даже в возможности написать письмо тому, кого она любила; она также еще не испытала, как велико мучение оставаться без видимых доказательств внимания того, кого любишь.
После эпизода с письмом жизнь в Кенигсграфе стала очень тяжела и очень скучна. Маркиза и ее падчерица обменивались немногими словами, да и те никогда не звучали дружески, не отличались ласковым характером. Даже детей отдаляли от сестры как можно больше, чтоб их нравственность не была развращена дурным сообществом. Когда она на это жаловалась их матери, маркиза только выпрямлялась и молчала. Если б было можно, она бы окончательно устранила всякое соприкосновение своих голубков с сестрою, не потому, чтоб она думала, что голубкам действительно будет причинен вред, — на этот счет она не имела никаких опасений, так как голубки подчинялись ее собственному влиянию, — но с тем, чтоб наказание лэди Франсес было полнее. При настоящих обстоятельствах не должно было быть семейной дружбы, братских игр, никаких нежностей, никакой пощады. Должно быть, думалось ей, в крови этой первой жены таилась нечистая примесь, которая сделала ее детей совершенно неподходящими к сословию, в котором они, к несчастью, родились. Это безобразие со стороны лэди Франсес, этот позор, при мысли о котором она положительно дрожала, эта ужасная привязанность к существу низшему раздражали ее даже против лорда Гэмпстеда. И брат, и сестра вообще так низко пали, что она невольно думала, что Провидение не могло предназначить их быть постоянной преградой славе семейства. Что-нибудь да непременно случится. Например, окажется, что они вовсе не законные дети настоящей маркизы. Откроется, какое-нибудь прекрасное, романическое сцепление, чтоб спасти ее и ее голубков, и всех Траффордов, и всех Монтрезоров от ужасного позора, которым угрожали им эти пришлецы. Мысль эта держалась в ее уме, пока не превратилась в почти незыблемое убеждение, что лорд Фредерик доживет до того, что станет лордом Гэмпстедом, — или, может быть, лордом Гайгэтом, так как в семье существовал третий титул, а имя Гэмпстеда должно было, на некоторое время, почитаться обесчещенным, — а с течением времени и маркизом Кинсбёри. До сих пор она имела привычку говорить своим деткам о их старшем брате с чем-то вроде уважения, какое следует оказывать будущему главе семейства; но в эти дни она изменила свой тон, когда они говорили ей о Джэке, как они упорно называли его, а она, по собственному побуждению, никогда не упоминала его имени в разговорах с ними.