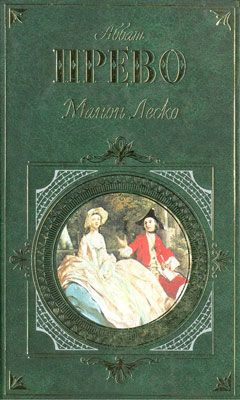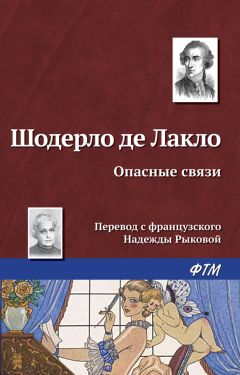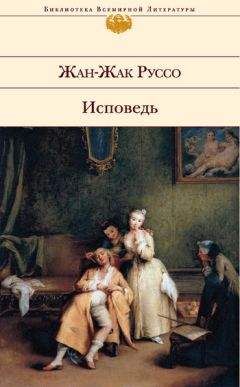Мне кажется, вы можете быть уверены в успехе уже потому, что она тратит слишком много сил сразу. Я предвижу, что она исчерпает их в словесной защите, а на защиту самой себя у нее уже ничего не останется.
Возвращаю вам оба ваши письма, и, если вы склонны соблюдать осторожность, они будут последними до мгновения, когда вы обретете счастье. Жаль, уже поздний час, а то я поговорила бы с вами о маленькой Воланж, — она делает большие успехи, и я ею очень довольна. Кажется, я добьюсь своего раньше, чем вы; радуйтесь этому, виконт. На сегодня — прощайте.
Из ***, 24 августа 17…
Письмо 34. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей
Вы необыкновенно красноречивы, прелестный мой друг, но зачем так выбиваться из сил, доказывая всем известные вещи? Чтобы добиться успеха в любви, лучше говорить, чем писать: вот, кажется, все, к чему сводится содержание вашего письма. Но ведь это же самые азы искусства обольщения. Замечу только, что вы делаете лишь одно исключение из этого правила, а между тем их два. К девочкам, которые вступают на этот путь из робости и отдаются по неведению, надо прибавить умничающих, которые вступают на него из самолюбия и которых тщеславие заманивает в силки. Так, например, я уверен, что графиня де Б***, сразу ответившая на мое первое письмо, тогда любила меня не больше, чем я ее, и что она усматривала в переписке лишь возможность с некоторым блеском поговорить на тему любви.
Как бы то ни было, любой адвокат скажет вам, что общее правило отнюдь не всегда применимо к каждому данному случаю. Вы вот полагаете, что у меня имеется выбор между перепиской и живой речью, а дело обстоит не так. После того, что произошло девятнадцатого, бесчеловечная заняла оборонительные позиции и принялась избегать встреч, проявляя гораздо больше ловкости, чем я. Если так будет продолжаться, она вынудит меня всерьез подумать о способах получить в этом деле перевес. Ибо я, безусловно, не допущу, чтобы она хоть в чем-либо одержала победу. Даже письма мои служат поводом для маленькой войны. Не довольствуясь тем, что она оставляет их без ответа, она отказывается даже принимать их. При каждом письме надо прибегать к какой-нибудь хитрости, и они далеко не всегда удаются.
Вы помните, каким простым способом я передал ей первое письмо. Со вторым тоже было не труднее. Она попросила меня вернуть ей ее письмо, а я вместо того передал мое, не возбудив ни малейшего подозрения. Но то ли от досады, что я провел ее, то ли по капризу, то ли, наконец, из-за своей добродетели — ибо в конце концов она заставит меня в эту добродетель поверить, — она упорно отказывается принять третье. Однако я надеюсь, что неудобное положение, в которое ее едва не поставил этот отказ, исправит ее на будущее время.
Я был не слишком удивлен, когда она отказалась принять письмо, которое я ей просто подал: это уже означало бы пойти на известную уступку, а я ожидаю более длительной обороны. После этой попытки, предпринятой, так сказать, мимоходом, для пробы, я вложил свое письмо в другой конверт и, избрав час ее туалета, когда с нею находилась госпожа де Розмонд и служанка, послал его с моим егерем, велев ему сказать ей, что это бумага, которую она у меня просила. Я верно угадал, что она побоится неудобного объяснения, к которому принудил бы ее отказ. И действительно, она взяла письмо, и мой посланец, которому сказано было приглядеться к выражению ее лица, заметил лишь легкий румянец — скорее смущения, чем гнева.
Поэтому я радовался, вполне уверенный, что либо она оставит это письмо у себя, либо, если пожелает вернуть его, ей придется побыть со мной наедине, что дало бы мне возможность поговорить с ней. Но примерно через час один из ее слуг является в мою комнату и передает мне от своей госпожи пакет иного вида, чем был мой; на конверте же я узнаю столь желанный мне почерк. Поспешно распечатываю…
В пакете находилось мое же собственное письмо, не распечатанное и лишь сложенное вдвое. Подозреваю, что на эту дьявольскую хитрость натолкнуло ее опасение, как бы я не оказался менее, чем она, щепетильным насчет огласки.
Вы знаете меня, и вам незачем описывать мое бешенство. Пришлось, однако, вновь обрести хладнокровие и изыскивать новые способы. Вот что я придумал.
Отсюда каждый день посылают за письмами на почту, находящуюся примерно в трех четвертях лье от замка. Для этой цели пользуются запертым ящиком, наподобие церковной кружки для сбора пожертвований, один ключ от которого хранится у начальника почты, а другой — у госпожи де Розмонд. Каждый из обитателей замка опускает в него свои письма в любое время в течение дня, и вечером их относят на почту, а утром приносят с почты письма, адресованные в замок. Все слуги, как хозяйские, так и посторонние, выполняют эту обязанность поочередно. Была очередь не моего слуги, но он вызвался пойти на почту под предлогом, что в ту сторону ему надо по делу.
Я же написал свое письмо. На конверте я изменил почерк и довольно удачно подделал дижонский почтовый штемпель, потому что мне казалось забавным, добиваясь тех же прав, что и муж, писать оттуда, где он находится, а также и потому, что прелестница моя весь день говорила, что очень хотела бы получить письма из Дижона. Я счел за благо доставить ей это удовольствие.
Приняв все эти меры предосторожности, легко было присоединить это письмо к прочим. Благодаря такому способу я выиграл и возможность быть свидетелем того, как оно будет принято, ибо здесь в обычае, собравшись к завтраку, ждать доставки писем прежде, чем разойтись. Наконец принесли письма.
Госпожа де Розмонд открыла ящик. «Из Дижона», — сказала она, передавая письмо госпоже де Турвель. «Это не почерк мужа», — заметила та с беспокойством, поспешно ломая печать. С первого же взгляда она поняла, в чем дело, и лицо ее так изменилось, что госпожа де Розмонд обратила на это внимание и спросила: «Что с вами?» Я тоже подошел со словами: «В этом письме что-нибудь ужасное?» Робкая богомолка глаз не смела поднять, не произносила ни слова и, чтобы скрыть смущение, делала вид, что пробегает глазами послание, которого не в состоянии была прочесть. Я наслаждался ее смятением и, будучи не прочь слегка подразнить ее, добавил: «Вы как будто успокоились. Можно надеяться, что это письмо скорее удивило, чем огорчило вас». Тогда гнев вдохновил ее лучше, чем могла бы сделать осторожность. «В этом письме, — ответила она, — содержатся вещи, которые меня оскорбляют, и я удивляюсь, как мне осмелились их написать». — «Кто же это?» — прервала госпожа де Розмонд. «Оно без подписи, — ответила разгневанная красавица, — но и письмо и автор его вызывают во мне одинаковое презрение. Меня бы очень обязали, если бы больше не заговаривали со мной о нем». С этими словами она разорвала дерзновенное послание, сунула клочки в карман, встала и вышла из комнаты. Но сколько бы она ни гневалась, а письмо все же было у нее, и я надеюсь, что любопытство побудило ее прочитать его целиком.
Подробное описание этого дня завело бы меня слишком далеко. Приложу черновики обоих моих писем: вы будете осведомлены не хуже меня самого. Если вы хотите быть в курсе этой переписки, придется вам научиться разбирать мои каракули, ибо ни за что на свете не соглашусь я на скуку еще раз переписывать их набело. Прощайте, мой милый друг.
Из ***, 25 августа 17…
Письмо 35. От виконта де Вальмона к президентше де Турвель
Я должен повиноваться вам, сударыня, я должен доказать вам, что, несмотря на все мои прегрешения, в которые вам угодно верить, у меня все же достаточно чуткости, чтобы не позволить себе ни единого упрека, и довольно мужества, чтобы заставить себя принести самые тяжкие жертвы. Вы предписываете мне молчание и забвение! Что ж, я заставлю свою любовь молчать и позабуду, если окажусь в силах, жестокость, с которой вы к ней отнеслись. Разумеется, желание быть вам угодным еще не давало мне на это права, и я готов признать: одно лишь то, что мне так нужна ваша снисходительность, не было еще достаточным основанием добиться ее от вас. Но, усматривая в любви моей оскорбление, вы забываете, что если это грех, то вы сами одновременно и причина его и оправдание. Забываете вы также, что я уже привык открывать вам свою душу даже тогда, когда доверчивость могла принести мне вред, и уже не в состоянии был скрывать от вас обуревающие меня чувства. Вы же считаете следствием моей дерзости то, что порождено чистосердечной откровенностью. В награду за любовь самую нежную, самую благоговейную, самую подлинную вы отбрасываете меня далеко от себя. Вы говорите мне даже о своей ненависти… Кто бы не стал жаловаться на подобное обращение? Один я покоряюсь и безропотно все переношу: вы наносите мне удары, а я продолжаю поклоняться вам. Немыслимая власть ваша надо мною делает вас самодержавной владычицей моих чувств, и если противостоит вам одна лишь любовь моя, если ее вы не в силах разрушить, то лишь потому, что она — ваше творение, а не мое.