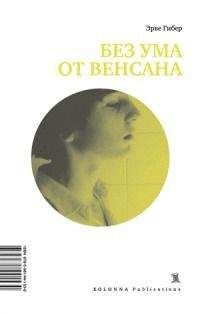тут же просыпается.
Он вставляет наушники своего плеера «Волкман» мне в уши: хочет, чтобы я послушал Брюса Спрингстина.
Он пританцовывает передо мной, будто в легком подпитии, под приглушенное эхо песни, доносящееся из наушников. Мне кажется, я сплю.
В остальное время – объятия, рот и анус.
Как-то раз я предлагаю ему пойти в кино. Я заготовил доводы, чтобы его убедить: в Клубе почти никого не бывает, особенно на дневных сеансах, а среди редких посетителей в основном пожилые, и мы не рискуем, что нас узнают. Добавляю еще одно предложение: он зайдет первым, и, если через пять минут, когда уже начнется реклама, он не выйдет, значит, путь свободен и я тоже могу войти. Он понимает, что я все продумал. Я говорю: а что мне остается, с ним-то. Он спрашивает: это что, упрек? Я отвечаю, что ничего подобного, просто я не забыл того, что он мне объяснил в первый же день в том кафе с пьянчугами.
Я открыл для себя кино четырьмя годами раньше, когда мы покинули деревню и квартиру над школой с тополями и переехали в Барбезьё: кино оказалось для меня как свет в окошке. Кинотеатр был, в общем-то, скромный: мало мест, слабая техника, мало сеансов, но для ребенка, приехавшего из деревни, такого, которому приходилось каждый вечер ложиться спать в полдевятого и, несмотря на все мольбы, отговорки и комедии, не удавалось урвать хотя бы несколько дополнительных минут, для ребенка, который никогда не видел ни одного фильма, это оказался новый мир. Для начала, мне понравились темнота зала, мягкие глубокие откидные кресла каштанового цвета (а в то время каштановый цвет не кажется ужасным), гигантский экран (в моих воспоминаниях он такой и есть, а на самом деле чуть меньше) и запах попкорна (и плесени тоже, поскольку там царила вечная сырость). Даже заставка Жана Минёра мне нравится, я жду появления улыбающегося мальчишки, который бросает кирку в цель, я знаю, что он попадет в «тысячу», что дальше появится номер телефона [11], а потом уже и фильм начнется. В двенадцать-тринадцать лет я не хожу смотреть фильмы, подходящие мне по возрасту: например, мультики Уолта Диснея, кажется, я их вообще так никогда и не видел, не заполнил этот давний пробел, не увлекаюсь ни боевиками, ни фантастикой, не смотрю даже «Бум» [12], который тогдашние подростки знают наизусть, все это как-то само собой оказывается мне неинтересно, а выбираю я, наоборот, фильмы для стариков: Франсуа Трюффо, Андре Тешине, Клода Соте, а еще скандально известные фильмы, вроде «Раненого человека» Патриса Шеро или «Одержимой» Жулавски. Когда я признаюсь в этом Тома, он говорит: меня это не удивляет.
И все же переспрашивает: ты что, правда, смотрел «Раненого человека»? Я отвечаю, что да, это из самых сильных моих потрясений, и не только в кино, конечно. Впервые я видел гомосексуальность, показанную на экране и, более того, просто, напрямую, без комплексов. Я рассказываю Тома о грязи и поспешности вокзала, тусклой тесноте вокзальных туалетов, о толкотне проституток и бездомных, об очень явном ощущении, что все это воняет дерьмом и спермой. Я рассказываю ему о торговле чувствами, о маргинальном мире, о телах, которые ищут друг друга, спрессовываются и злобно отталкиваются. Я чувствую, что ему противно. Он говорит: но это ведь не то. Он не произносит фразу целиком. Не говорит: гомосексуальность – это ведь не то. Он не может произнести это слово, кстати, он так и не скажет его ни разу. Он говорит: получается омерзительная картина. Я помню его слова: «омерзительная картина», он не сказал, например, «грустная картина». Некоторые адресовали Патрису Шеро подобные упреки. Я возражаю, что он ошибается, что это прежде всего фильм о любви, о страсти подростка к мужчине и что любовь эта абсолютно чиста. Я говорю о чистоте этой безумной любви. Он отвечает, что никогда не пойдет смотреть этот фильм.
Тогда мне еще неизвестно, что Эрве Гибер, автор сценария, станет для меня крайне важным писателем. Через шесть месяцев я прочту «Одинокие приключения». И слова, которые меня поразят: «Возможно, думать, что я мог бы тебя любить, это просто задвиг, но я так думаю. Мне ничего от тебя не нужно: только смотреть на тебя, слушать, видеть, как ты улыбаешься, обнять. Эта тяга нигде не локализована, просто стремление быть рядом». Я узнáю, что книга может говорить обо мне, со мной. (И узнаю вдобавок невиданную силу нейтральных слов, простых, называющих реальность без обиняков.) Шесть лет спустя Гибер объявит, что болен СПИДом и скоро умрет. И теперь я спрашиваю себя, был ли «Раненый человек» фильмом-предупреждением или, наоборот, отражением последних вспышек свободной любви, без ограничений, без страха и морали? Любви накануне гекатомбы.
Также я тогда еще не знал, что мне доведется встретиться с Патрисом Шеро, работать с ним. Он экранизирует один из моих романов. О братских чувствах и агонии, об измученном теле, которое движется к смерти. Вышло как будто кольцо, замкнувшееся двадцать лет спустя.
На исходе той зимы 1984 года мне до смерти хочется посмотреть фильм Копполы «Бойцовая рыбка» [13], представленный как продолжение «Изгоев», которые вышли несколькими месяцами раньше. Мне так нравился этот рассказ о молодости, о безделье, о силе завязавшихся в отрочестве связей, о раскрепощении – в этом фильме участвуют все те, кто прославит кино восьмидесятых: Том Круз, Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, Роб Лоу. Мне так нравились эти плохие парни с напомаженными волосами – они словно младшие братья героев «Бунтаря без причины». Но главное, я буквально влюбился в Томаса Хауэлла, который играет Понибоя. Я с поразительной точностью вспоминаю физическое ощущение любви с первого взгляда, которую тогда испытал. Мне потребуется много недель, чтобы прогнать то смятение, примириться с его абсолютной бесплодностью. Кстати, я осознаю, уже задним числом, что Тома на него похож (я спрашиваю себя, не сработало ли это на подсознательном уровне, и тут же гоню эту мысль). Когда я сообщаю ему, что «Бойцовая рыбка» – черно-белый фильм, он говорит: не можем же мы идти смотреть такое, это фильм для наших родителей.
Вместо «Рыбки» мы покупаем билеты на «Лицо со шрамом» Брайана де Пальмы. Я не удержался и заметил, что отзывы о нем ужасающие: его ругают за бессмысленную жестокость, ненужную грубость языка, кричащую эстетику. Но прав, конечно, оказывается Тома. Это – шедевр, и, может быть, прежде всего это жестокая сказка о деньгах, которые развращают. Во время рекламы он говорит: сценка с