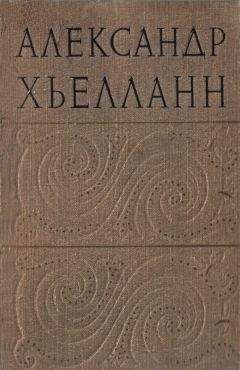Но через несколько дней он совершенно неожиданно оказался у Эльсе в комнате. Она бросилась к двери спальни, чтобы запереться там. Свенн между тем стоял не двигаясь, и осматривался. Он изменился. Лицо у него уже не было такое красивое и загорелое, как летом, и Блохе было хорошо видно, что в последнее время он много пил.
— Я все знаю, Эльсе, — начал он, — но это ничего. У меня с лета осталась еще сотня крон. Если хочешь быть со мной, мы поженимся и уедем к моему дяде в Арендал, там мне обещали работу.
Эльсе опустила ручку двери. Ей больше не было страшно, она стыдливо опустила голову и сказала:
— Нет, Свенн! Не проси меня об этом, я не могу. Но спасибо тебе.
Свенн сел на стул у двери и, когда увидел, что Эльсе плачет, тоже заплакал. Так они проплакали некоторое время, каждый в своем углу.
Но тут Эльсе подумала, что кто-нибудь может войти. Она торопливо вытерла глаза и стала умолять его как можно скорее уйти.
Безвольный и покорный, он дал прогнать себя, но сказал, что придет еще раз.
И он действительно часто приходил в часы, когда им не могли помешать. Всякий раз, когда она видела его, чувство стыда вспыхивало в ней вновь, но все слабее и слабее, пока она не смогла уже сидеть подолгу, разговаривая с ним. Со странным нервным интересом она слушала его рассказы о том, как тают его сбережения. Она усердно расспрашивала его о его товарищах и когда услышала, что он сошелся кое с кем из Банды, поняла, что дело его дрянь.
Но она не предостерегала его, ей даже не казалось, что это плохо. Было бы гораздо хуже, если бы он остался таким же красивым и невинным, каким он был, когда она впервые увидела его, — теперь, когда она сама пала так низко.
В день, когда у него осталось всего двадцать крон, он предложил их Эльсе — полунагло, полууниженно — за один-единственный поцелуй. Но Эльсе отпрянула в страхе и гневе: ни за что на свете она не хотела бы притронуться к нему или его деньгам. Свенн выслушал ответ униженно и покорно, как побитая собака. Но когда он тихо направился к двери, ей все-таки стало жалко его, и она поцеловала его и не взяла денег.
Так прошла зима…
Но когда к концу февраля и в марте дни стали длиннее и светлее, всяческие слухи, которые потихоньку высиживались в зимней темноте, вылупились из яиц, начали шевелить крылышками, и вскоре новая история о консуле Вите, разрезая со свистом воздух, понеслась от дома к дому.
Консул прибег к своему обычному средству: он уехал по делам в Лондон. А в один прекрасный день, когда ласковая женщина явилась к Эльсе, на лице у нее было совершенно новое выражение и ни малейшего намека на улыбку. Она объявила коротко и ясно, что консул уехал — по меньшей мере на год — и что Эльсе делать в этом доме нечего, что ей надо сейчас же убираться и нельзя ничего взять с собой.
Но Блоха уже больше не походила на ту Блоху, которую когда-то выгнала мам Спеккбом. Она встала и осыпала ласковую женщину градом ругательств. Разгорелась перепалка, которая кончилась тем, что женщина поклялась, что до захода солнца Блоха уберется из ее дома.
— С удовольствием, с величайшим удовольствием, — ответила Эльсе. Она и сама подумывала об этом: ей опротивела вся эта история. И когда в этот момент на лестнице появился Свенн, она крикнула ему, сверкая глазами:
— Я пойду с тобой, Свенн!
Но Свенн, казалось, был скорее ошеломлен, чем счастлив. Упавшим голосом он шепнул ей:
— У меня не осталось ни шиллинга.
Тогда Блоха рассмеялась — рассмеялась так, что зазвенел весь дом сверху донизу. Свенну стало несколько не по себе.
Сияя, словно это был ее величайший триумф, она взяла его за руку и прошла мимо женщины, которая издевательски смеялась над ними.
Они пошли к Банде. У дверей фрекен Фалбе Эльсе остановилась и нахмурилась, но всего лишь на мгновение.
V
Красивая фру полицмейстерша уже больше не ожидала посетителей с десяти до одиннадцати. Ей это надоело.
Подготовительным работам не было видно конца. Казалось, что, основав это общество, капеллан достиг своей цели и что дальнейшее процветание и успех общества его не особенно волновали.
На последнем собрании он — при всеобщем одобрении — даже предложил отложить дело до осени: ведь приближалось лето, и все покровители общества разъезжались — кто на морские купанья, кто в деревню. Поэтому приходилось, как выразился капеллан, ограничиться незаметной будничной работой, а затем, если богу будет угодно, вновь встретиться осенью с обновленными силами.
Но незаметная будничная работа была не для фру полицмейстерши. Она, напротив, желала отличиться тем или иным образом. Но повода к этому не представлялось, и в конце концов она оставила журнал закрытым на письменном столе. Она не убрала его: ведь это была красивая вещь, и все, кто приходил в дом, спрашивали, что это такое.
Однажды ясным майским утром между десятью и одиннадцатью в спальню вошла горничная и доложила, что пришла фрекен Фалбе, которая желает поговорить с фру полицмейстершей.
Фру сначала хотела не принимать посетительницу, но, услышав, что дело касается «Общества помощи падшим женщинам общины святого Петра», быстро и элегантно оделась и вышла к посетительнице. Но все же она была слегка рассержена: как это похоже на фрекен Фалбе — приходить не вовремя. На нее также было похоже, что она, казалось, совсем не слушала рассказа фру о жуткой мигрени, а сразу же перешла к делу.
— Вы помните, сударыня, — начала она, — что некоторое время тому назад я рекомендовала одну молодую девушку в ваше общество? Вы помните также, что явилось препятствием для ее приема?
Фру чопорно кивнула.
— Это препятствие, к сожалению, теперь отпало, — голос фрекен Фалбе при этих словах зазвучал несколько резко, — девушка эта сбилась с пути весьма основательно и самым прискорбным образом.
Фру полицмейстерша не знала, что ответить. Она придала своему лицу официальное выражение и стала искать в уме возражений: она чувствовала инстинктивное желание противоречить фрекен Фалбе.
Но вдруг ее осенила мысль, что здесь ей представляется великолепный случай отличиться. Ведь она — секретарь общества, и хотя приют еще не организован окончательно, но зато в ее распоряжении имеются деньги и одежда. Она посмотрела на журнал. В него следовало записывать женщин, которые получали от общества регулярную помощь.
Фру полицмейстерша приняла дерзкое решение и торжественно открыла журнал.
Твердым и изящным почерком она стала — наконец-то! — заполнять пустые графы первой строки: фамилия, возраст, кем рекомендована и т. п., — притом с таким деловым видом, словно выполняла все это в двадцатый раз.
Когда все сведения были внесены, фрекен Фалбе сказала:
— Что же касается ребенка…
— Ребенка! — воскликнула фру полицмейстерша. — Разве у нее есть ребенок?
— Должен быть, — ответила непоколебимая фрекен Фалбе.
Бедной фру показалось, что она теряет сознание. Однако гнев одержал верх. Она залилась краской, а глаза ее засветились всем, чем угодно, но только не кротостью. Она поднялась:
— Как вам не стыдно, фрекен Фалбе! Вот всегда вы так делаете. Теперь мне надо стереть резинкой запись в журнале — он испорчен, совсем испорчен! — и фру расплакалась от горя и досады.
— Что это значит? — спросила фрекен Фалбе.
— Вы прекрасно знаете, — рыдала фру, — раз есть ребенок, то вам надо было обратиться в «Общество помощи нуждающимся роженицам», а не к нам. И вы это прекрасно знали. Нет, вы это знали! Я убеждена в этом!
Фрекен улыбалась. Фрекен Фалбе действительно улыбалась несколько зло, спускаясь по лестнице. Знала ли она то, о чем говорила фру полицмейстерша, трудно сказать, во всяком случае она не пошла в «Общество помощи нуждающимся роженицам».
Напротив, она пошла домой, в Ковчег, и разыскала мам Спеккбом. Обе дамы хорошо знали друг друга и питали друг к другу большое уважение. Когда фрекен Фалбе бывало трудно оказать помощь какому-нибудь из найденных ею бедняков, она всегда знала, что мам Спеккбом выручит ее.
Мадам тоже очень высоко ценила фрекен Фалбе — больше всего за то, что она была единственным образованным человеком, выказывавшим неподдельное уважение к ее врачебному искусству.
Кроме того, мадам обычно утверждала, что, хотя фрекен и могла отдавать беднякам не так уж много, ни одна из благодетельниц города не приносила столько пользы, сколько она, и не была так любима.
Но когда мадам услыхала, что в помощи нуждается Блоха, она неодобрительно встряхнула своими буклями:
— От этого проку не будет, фрекен. Я-то знаю эту породу!
Мам Спеккбом так скучала без Блохи, что за каких-нибудь полгода почти что превратилась в старуху. Раскаиваться-то она, по-видимому, раскаивалась, но была существом слишком суровым и воинственным, чтобы признаться в этом.