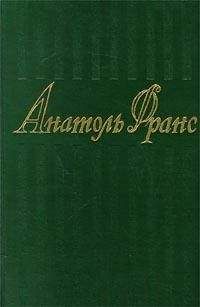Он повиновался. И пока он отсутствовал, молодая вдова вглядывалась в темную чащу, слушала шорох листьев. Он возвращается; в руках у него книжка с золотым обрезом.
— «Идиллии Гесснера»?[329] Они самые! — говорит Софи. — Откройте книжку на той странице, что заложена; если ваши глаза настолько хороши, чтобы различать буквы при лунном свете, читайте.
Он читает:
— «Ах, как часто моя душа будет витать близ тебя! Как часто в минуты, когда ты, исполненная благородного и возвышенного чувства, в уединении погрузишься в раздумье, легкое дыхание коснется твоей щеки: пусть же сладостно трепещет тогда твоя душа!»
Она прерывает чтение:
— Теперь вы понимаете, Жермен, что мы ни минуты не бываем одиноки и что есть слова, которые мне не должно слушать, когда дыхание Океана колышет листву дерев?
Голоса двух стариков приближаются.
— Бог — добро! — говорит Дюверне.
— Бог — зло! — говорит Франшо. — И мы его упраздним.
Оба старца и Жермен откланиваются.
— Прощайте, господа! — говорит Софи. — И «Да здравствует свобода! Да здравствует король!» А вы, сосед, не мешайте нам умереть, когда это потребуется.
(Рукопись от 15 сентября 1792 г.)
I
Когда я вошел, Полина де Люзи протянула мне руку. И с минуту мы хранили молчание. Ее шарф и соломенная шляпа, небрежно брошенные, лежали на кресле.
На эпинете были раскрыты ноты «Мольбы Орфея»[331]. Подойдя к окну, она провожала глазами солнце, уходившее за кровавый горизонт.
— Помните ли вы, сударыня, — сказал я, — слова, произнесенные вами ровно два года тому назад, у подножья этого холма, на берегу реки, к которой обращены сейчас ваши взоры? Помните ли вы тот миг, когда, обводя окрест пророческим жестом руки, вы предрекали дни испытаний, дни преступлений и ужаса? Вы предвосхитили признание в любви, готовое сорваться с моих уст, сказав: «Посвятите свою жизнь борьбе за справедливость и свободу!» Сударыня, я отважно вступил на путь, указанный вашей рукой, которую я, увы, не часто мог целовать и орошать слезами. Я повиновался вам, я писал, я выступал с речами. Два года вел я, не зная покоя, борьбу с голодными сумасбродами, сеющими смуту и ненависть, с трибунами, соблазняющими народ истерическими проявлениями мнимой любви, и с трусами, готовыми подчиниться всякой власти.
Она прервала меня, подав знак прислушаться. И тут до нашего слуха, ворвавшись в щебетание птиц, оглашавших своими голосами благоуханный воздух сада, донеслись отдаленные возгласы: «На фонарь аристократа!»
Без кровинки в лице, она так и замерла, приложив палец к губам.
— Преследуют какого-нибудь несчастного, — сказал я. — В Париже днем и ночью идут обыски и аресты. Могут пожаловать и сюда. Я должен удалиться, чтобы не компрометировать вас. В этом квартале меня мало знают, а все же в нынешние времена я гость опасный.
— Останьтесь, — сказала она.
Крики вторично ворвались в мирную тишину вечера. Послышался шум шагов, выстрелы. Вот уже они совсем близко; кто-то кричит: «Обложите выходы! Как бы негодяй не ускользнул!»
Госпожа де Люзи, казалось, становилась спокойнее по мере приближения опасности.
— Поднимемся на второй этаж, — сказала она, — нам будет видно сквозь жалюзи, что творится на улице.
Но, открыв дверь, они сразу же наткнулись на лестничной площадке на обессилевшего, мертвенно-бледного человека, у которого колени подгибались и зубы стучали. Этот призрак прошептал задыхающимся голосом:
— Спасите меня! Спрячьте!.. Они уже тут… Они взломали дверь, проникли в мой сад. Они идут…
II
Госпожа де Люзи, узнав Планшоне, старика философа, жившего в соседнем доме, шепотом спросила:
— Моя кухарка видела вас? Она якобинка!
— Меня никто не видел.
— Славу богу, сосед!
Она повела его в спальню, и я последовал за ними. Нужно было что-то придумать, найти какое-нибудь укромное место, куда можно было бы спрятать Планшоне на несколько дней, на несколько часов, хотя бы на столько времени, чтобы преследователи сбились с ног и потеряли след. Условились, что я буду наблюдать за окрестностью и, по моему знаку, наш бедный друг выйдет через садовую калитку.
А он едва держался на ногах. Этот человек находился в состоянии крайнего потрясения.
Он пытался объяснить, что его, врага священников и королей, обвиняют как участника заговора Казотта[332] против конституции и в том, что он десятого августа присоединился к защитникам Тюильри[333]. Недостойная клевета! Все дело в том, что его ненавидит Любен, тот самый Любен, бывший мясник, которого он сто раз собирался поучить палкой, как надо отвешивать говядину! А теперь он председатель секции той самой улицы, где была его лавка.
Произнеся это имя приглушенным голосом, он вдруг закрыл лицо руками, ему почудилось, что перед ним стоит сам Любен. И действительно, на лестнице послышались чьи-то шаги. Г-жа де Люзи закрыла дверь на задвижку и втолкнула старика за ширмы. В дверь постучали, и г-жа де Люзи узнала голос своей кухарки, кричавшей, что надобно отпереть калитку, — дескать, городские власти вместе с национальной гвардией пришли произвести обыск.
— Они говорят, — прибавила девушка, — будто в нашем доме прячется Планшоне. Я-то хорошо знаю, что вы не пожелаете укрывать такого злодея! Но они мне не верят.
— Ну, что ж, пусть войдут! — спокойно крикнула г-жа де Люзи. — Пусть обыщут весь дом, с погреба до чердака!
Бедняк Планшоне впал в обморочное состояние, услышав из-за ширмы этот диалог, и мне стоило большого труда привести его в чувство, смочив виски водою.
— Мой друг, — тихо сказала г-жа де Люзи старику, когда он пришел в себя, — доверьтесь мне. Помните, что женщины хитры.
Затем она немного выдвинула из алькова кровать, сняла с нее одеяло и, с моей помощью, положила лежавшие на ней три матраца так, что у стены образовалось небольшое пространство между верхним и нижними матрацами.
В то время как она спокойно занималась этими приготовлениями, на лестнице раздался топот ног, обутых в башмаки и сабо, стук ружейных прикладов, послышались хриплые голоса. Для нас троих то была ужасная минута; но вскоре грохот раздался над нашими головами. Мы поняли, что отряд, под предводительством кухарки-якобинки, обыскивает прежде всего чердаки. Потолок трещал, слышались угрозы, хохот, удары ног и штыков о переборки. Мы вздохнули свободнее, но нельзя было медлить ни минуты. Я помог Планшоне втиснуться в узкое пространство между матрацами.
Глядя на нас, г-жа де Люзи качала головой. Развороченная постель имела весьма подозрительный вид.
Она попробовала оправить ее, но это ей не удавалось.
— Придется мне самой лечь в постель, — шепнула она.
Она посмотрела на часы — было семь часов вечера. Лечь спать так рано? Правдоподобно ли? Сказаться больной? Нечего было и думать об этом: кухарка-якобинка раскрыла бы ее хитрость.
Она колебалась несколько секунд; затем спокойно, с величественной простотою разделась в моем присутствии, легла в постель и приказала мне снять башмаки, камзол и галстук.
— Вам придется быть моим любовником, и пусть они нас накроют. Когда они явятся, вы якобы не успеете привести в порядок свой костюм. Вы откроете им дверь в одной куртке[334] с растрепанными волосами.
Приготовления наши были закончены, когда отряд муниципальной гвардии, с ругательствами и проклятиями, спустился с чердака.
Несчастный Планшоне так дрожал, что сотрясалась постель.
Более того, он задыхался, и его хрип, наверное, был слышен даже в коридоре.
— Как жаль, — прошептала г-жа де Люзи, — а я была так довольна своей выдумкой! Будь что будет! Не станем отчаиваться, и да поможет нам бог!
Дверь задрожала под ударами кулаков.
— Кто там? — спросила Полина.
— Представители народа.
— Не можете ли вы подождать минуту?
— Отпирай! Иначе взломаем дверь!
— Отоприте им, друг мой.
Внезапно каким-то чудом Планшоне перестал дрожать и хрипеть.
III
Любен, опоясанный трехцветным шарфом, вошел первым; за ним следовало человек двенадцать с пиками. Обводя попеременно взглядом г-жу де Люзи и меня, он вскричал:
— Убей меня бог! Мы вспугнули влюбленных. Простите нас, красавица!
Затем, оборотившись к солдатам муниципальной гвардии, провозгласил:
— Одни только санкюлоты и нравственны!
Но, вопреки своему изречению, он пришел в веселое расположение духа.