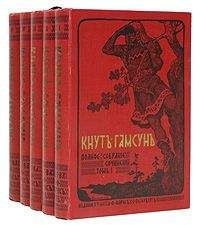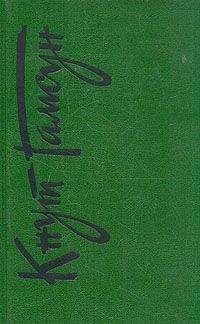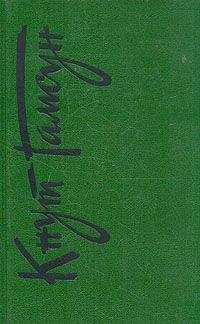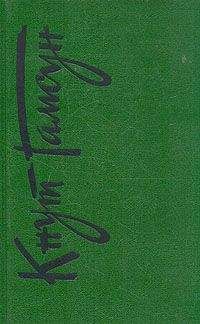— Я не буду вступать с вами в пререкания, для этого вы оцениваете деятельность Люнге слишком низко. Это ведь смешно. Разве не имеет никакого значения то, что «Газета» уличила пастора в преступном обращении с ребёнком?
— Господи Боже, какая отрицательная заслуга: разгласить такой скандал, чтобы только привлечь ещё несколько подписчиков.
— Да, ещё бы, только из-за этого!
— Исключительно! Ведь в противном случае об этом довели бы до сведения полиции, это был бы единственный правильный путь.
— Но пастор был удалён, слава Богу; мне важен результат. Агент Йенсен в Осло ведёт противозаконную торговлю сукном, «Газета» узнаёт об этом, она обращается к этому господину и требует проверки его книг. Он отказывается, «Газета» печатает пару статей, и через три недели господин агент принуждён был связать свои узлы и удрать в Америку. Опять результат!
— Опять доказательство стремления Люнге заполучить ещё пару подписчиков. Этот человек выступает от лица прессы, он хочет проникнуть во все дома и устроить допрос и экзамен, он говорит: «пожалуйста, покажите ваши книги!». Клянусь Богом и Его ангелами, я схватил бы этого маленького франта и спустил его с лестницы, если бы он явился ко мне. Даже в том случае, если бы я был виновен в незаконной торговле сукном...
— Да, берегитесь, он может когда-нибудь явиться.
— Милости просим... Сам он слишком ничтожен, чтобы отважиться на какой-нибудь смелый поступок, он никогда не выплывает за пределы того, где он, по его мнению, может скрыться. Он любит тёмные пути, скрытность, поцелуй в углу, тайное рукопожатие, шарлатанство, под предлогом очистить общество. Все могли бы это видеть, он ведь через небольшие промежутки времени довольно откровенно показывает свою наготу...
Звонят. София идёт и отворяет, она возвращается с последним номером «Газеты», и Бондесен набрасывается на листок со всегдашним интересом.
Но в этом номере Люнге ясно и определённо поднял флаг. Редакционная статья говорит об отношениях газеты к обратившим на себя внимание статьям об унии: среди публики возникли сомнения, исходят ли эти статьи от самой редакции или являются работой постороннего лица. Для разъяснения этим уважаемым скептикам, Люнге считает своим долгом сообщить, что эти статьи принадлежат самой «Газете», что они отстаивают её собственную политическую точку зрения, и что орган берёт на себя всю ответственность за них. Точка.
Бондесен читал с раскрытым ртом, молча, с самыми противоположными чувствами в груди. Значит, он, к несчастью, был неправ; как он ни стучал но столу, он всё же ошибался. Он передал «Газету» Гойбро и не сказал ни слова.
Гойбро находит огромную передовицу про ворожею в Кампене, которая была открыта одним из агентов «Газеты» и которая занималась тёмными проделками при помощи карт и кофейной гущи, за рюмку водки или за чашку кофе у соседей. Ведь она надувала народ, водила всех за нос! Побольше школ, побольше народного просвещения в Кампене!
Наконец он дошёл до объяснения редактора. Он прочёл его, как и всё остальное, не проявляя удивления, и сказал, когда кончил:
— Да, вот вы и сами видите.
— Да, — отвечал Бондесен. — Я вижу.
Пауза.
Гойбро уже собрался уходить.
Но Бондесену вдруг пришла в голову идея, тонкая и остроумная, по его мнению, мысль..
— А вы вполне уверены, что у Люнге не было при этом никакого умысла? — спросил он. — Вы не в состоянии представить себе возможность того, что у этого человека есть цель, задумана тайная миссия? Не могли бы вы предположить, что он при помощи своих ухищрений хочет попытаться проникнуть к правым, хочет, чтобы правые его читали, а затем, мало-помалу, впустить яд левой в их партию?
— Прежде всего, — отвечал Гойбро, — я считаю правых не такими шаткими в своих убеждениях, чтобы работа «Газеты» могла их поколебать. Такое ничтожество не сумеет одурачить эту партию, с её старинной образованностью и солидностью. А во-вторых, вы обманываетесь относительно Люнге. В чём его теперь подозревают, или в чём он может рисковать быть заподозренным? В том, что он всё делает только для того, чтобы производить волнение и шум и привлекать любопытных подписчиков. Но этот человек не желал бы годами терпеть он люден это подозрение, если бы он его не заслуживал, Для этого он слишком мелок. Если бы его тайной целью было превратить консерваторов в левых, он не мог бы умолчать, он разболтал бы об этом, выдал бы свою тайну, напечатал бы её большими буквами вот здесь, на первой странице. Но, может быть, ему нравится, что вы и другие считают его таким величественно-непроницаемым.
На это Бондесен ничего не отвечает. Он пожимает плечами.
— Да, да, — никто из нас, видно, не пересоздаст мира, — говорит он. — Откровенно говоря, когда я как следует вникаю в это объяснение Люнге и вижу его доводы, он меня всё-таки восхищает. Он дьявольский парень! Его противники из среды левых, его конкуренты уже, вероятно, думали, вот тут-то они его поймали, на этих статьях об унии. Но он всегда неуязвим. Дьявольский парень!
— Есть только два рода людей, — отвечает Гойбро. — Людей, которые могут успевать в жизни и всегда оставаться неуязвимыми. Это, во-первых, люди с чистым сердцем. Правда, они не всегда практичны, но, в действительности, в глубине души, они неуязвимы. А затем — люди нравственно испорченные, нахальные в пределах закона, которые лишились способности чувствовать угрызения совести. Они могут вскарабкаться наверх, даже когда они тонут.
Но теперь Бондесену показалось, что эти беспрестанные ответы на его обращения слишком близко задевают его, отстраняют его на второй план. Возможно, что он был побеждён в этом споре, он не проявил своей силы. И он произносит развязно:
— Ну, об этом нечего больше говорить, взрослых людей не переубеждают несколькими доводами. Но как бы то ни было, если такой человек, как Люнге, если даже он колеблется в защищавшейся им до сих пор политике, это уже достаточное основание для нас — детей по сравнению с ним — снова обдумать эту вещь. Доводы Люнге меня, между прочим, поразили, я почти не могу понять, почему такие простые вещи не приходили мне в голову раньше. Настолько ясными они мне кажутся.
Тут Гойбро разражается громким и язвительным смехом.
— Ожидал этого! — сказал он.
— Но, нотабене, — я удерживаю за собою право самому подумать над этими доводами ещё раз. Я...
— Да, подумайте, подумайте. В этом ведь именно, как я сказал, хорошая особенность некоторых людей: что они так ловко свыкаются с убеждением, которое появляется немного неправильно. Такая неправильность не заставляет их бледнеть от волнения, не лишает их сна и аппетита. Они входят в новое положение, осматриваются немного и остаются в нём. Да!
Девушки до сих пор не произнесли ни одного слова. Шарлотта смотрит с минуту на Бондесена, затем она тоже начинает смеяться и говорит:
— Да, это именно и говорил господин Гойбро.
Но тут Бондесен вдруг покраснел и с трясущимися губами произнёс:
— Мне совершенно безразлично, сказал ли или не сказал господин Гойбро. Я не нуждаюсь в тебе, как в свидетельнице, ты ведь в этом ничего не понимаешь.
Какая неосторожность, какое безрассудство! Шарлотта склонила лицо над работой, а немного спустя, когда она подняла голову, она ничего не сказала. Она смотрела на Бондесена неподвижным взглядом.
— Что ты хочешь сказать? — продолжает спрашивать Бондесен в запальчивости.
Тут вмешивается Гойбро, он делает глупое и оскорбительное замечание, в котором он впоследствии раскаивался:
— Фрёкен хочет обратить ваше внимание на то, что вы с нею не на «ты».
Бондесен смущается на мгновение, он говорит: — О, простите! — Но затем злоба снова закипает в нём, и он выдаёт эту тайну, сгоряча нарушает своё слово, уговор, который он должен был скрывать, и, обращаясь к Гойбро, он отвечает:
— Впрочем, я хочу обратить ваше внимание на то, что фрёкен не желала обращать моё внимание на что-либо. Мы на «ты».
Гойбро был поражён, он побледнел, поклонился и попросил прощения. Он посмотрел на Шарлотту; взгляд, который она бросила на Бондесена, выражал большую радость. Как это было странно, — она смотрела на него прямо сияющими глазами! Гойбро этого не понял. Однако ведь это его не касалось. Но они были на «ты»!
Он взял свою шляпу в руки и пошёл к двери. Здесь он снова низко поклонился и почти шёпотом, не глядя ни на кого, сказал: «До свидания», затем тихо вышел. Немного спустя его увидели бегущим по улице, без пальто, в довольно лёгкой одежде и с длинными, растрёпанными волосами.
Бондесен остался.
Это было верно, Шарлотта и Бондесен говорили друг другу «ты» наедине, в комнате у Бондесена, на Парквайене, когда с ними никого другого не было. Она была здесь уж много раз; когда они шли домой из рабочего союза в тот вечер, когда Бондесен вполне овладел её сердцем, это случилось в первый раз. Впоследствии приходили сюда довольно часто в течение осени и зимы, оставались здесь обыкновенно час или два, когда возвращались со своих прогулок на велосипеде, а когда пришла зима и снег, отправлялись в театр или цирк только для того, чтобы потом провести вместе этот короткий час после представления в комнате Бондесена. Ей было так жарко от ходьбы, от свежего воздуха, она всегда расстёгивала своё пальто, когда входила в комнату, и Бондесен помогал ей при этом. В печке трещал огонь, а чтобы было совсем уютно, они тушили лампу.