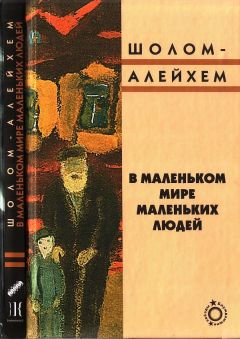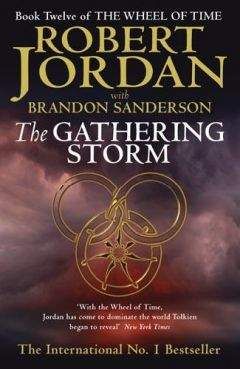Совершив молитву во славу Бога, отделившего праздник от будней, Мееры и Шнееры пришли к раввину реб Иойзефлу, дабы он рассудил их, и застали там великое множество народу. Весь город жаждал услышать, каков будет приговор реб Иойзефла? Как он умудрится поделить между двумя братьями одно-единственное место? Прежде всего, реб Иойзефл предоставил обеим сторонам возможность доказать свою правоту. Реб Иойзефл стоит на том, что перед тем, как вынести решение, надо дать обеим сторонам высказать свои доводы, ибо чем помогут им доводы после решения суда? Потом он и служке Азриелу дал говорить столько, сколько тому хотелось. Азриел был ведь в этом деле взаправдашный очевидец. Говорили и просто почтенные горожане — всякий, кто душой привержен к справедливости, вмешался, вставил слово, и не одно слово, а множество слов. Реб Иойзефл, слава Богу, такой человек, который всем дает говорить. Я уже давно заметил, что реб Иойзефл немного философ: он держится того мнения, что сколько бы человек ни говорил, он непременно когда-нибудь замолчит.
Так оно и вышло. Весь город говорил, говорил — потом перестал говорить. А когда люди наконец замолчали, реб Иойзефл, по своему обыкновению, тихо, медленно и благожелательно обратился к Меерам и Шнеерам со следующей речью:
— Внемлите, досточтимые, выслушайте же меня, евреи!
Суть дела вот в чем. Я выслушал вас обоих, ваши доводы и пожелания, а также суждения всех остальных почтенных людей и вижу, что вы, бедняжки, оба правы. У вас у обоих был, к прискорбию, всего один отец — прекрасный отец, да будет ему светел рай. Нескладно только, что он оставил вам обоим, к прискорбию, всего-навсего одно место. Конечно, вам обоим очень дорога эта вотчина — как-никак собственное место у восточной стены в старой-старой касриловской синагоге. На это, конечно, не махнешь рукой. Но что же? Точно так же, как невозможно, чтобы один человек мог занимать два места, невозможно, чтобы два человека довольствовались одним местом, наоборот, мне даже кажется, что куда легче одному человеку занимать два места, нежели двум людям сидеть на одном месте, потому что, когда у одного человека, к примеру, имеется два места, он один раз сидит на этом месте, а другой раз — на том, но если два человека попытаются в одно и то же время сесть на одно и то же место — ничего не получится. К примеру, теперь я держу правую руку вот тут, на этой книге. Если я, к примеру, захочу в это же время положить левую руку на то самое место, где лежит моя правая рука, я не смогу это сделать. Почему? Потому что так Всевышний создал мир, и человеческий разум не в силах это постигнуть. Так что после сказанного мной остается только один вопрос: как быть с двумя братьями, если у них все-таки, к прискорбию, был только один отец и оставил он им всего-навсего только одно место? Каждому оно, конечно, в охоту — как-никак собственное место у восточной стены в старой-старой касриловской синагоге. На это, конечно, не махнешь рукой! Остается одно: да размежуются — пусть поделятся. Но как же поделить место? Ведь место это не… не… яблоко, чтобы его можно было разрезать пополам и сказать: вот тебе полместа и вот тебе полместа. Тем не менее есть возможность сделать так, чтобы вы оба сидели у восточной стены. До этого я додумался, благодарение Всевышнему, своим собственным умом. Вы спросите, каким образом? А так! Ваше и мое место — это два места, одно рядом с другим. Займите, деточки, оба эти места и будете сидеть, на доброе здоровье, рядом — место возле места, и не будет у вас повода к распрям. Но же? Возникает вопрос: как же я обойдусь без места? Ответ на это таков: где сказано, что раввин или даже просто еврей должен непременно обладать собственным местом, и непременно у восточной стены, и непременно в старой синагоге? Давайте же хорошенько вникнем, что такое синагога? Святой дом. Зачем мы ходим в синагогу? Молиться. Кому молиться? Всевышнему. Где Он находится? Всюду, вся земля полна Его величием, Им полон весь мир! А раз это так, то какое может иметь значение — восток ли, север ли, юг ли, сидеть ли на самом почетном месте или просто стоять у дверей? Только бы ты посещал святой дом, только бы ты молился! Притче какой уподоблю сказанное мной — с чем сравню я это? А вот с чем. Во дворец к царю явились два раба просить о какой-то милости. Вдруг эти рабы поспорили между собой и на глазах у царя вцепились друг другу в бороды, совсем забыв, ради чего они сюда явились и перед кем стоят: царь, нетрудно догадаться, отчитал их как следует и повелел, чтобы их, прошу прощения, вывели вон; и в самом деле, если вам хочется дергать друг друга за бороды, идите себе подобру-поздорову во двор и деритесь там, сколько вашей душе угодно! Зачем вы полезли во дворец к царю, раз вы не знаете, как себя вести?.. Такова притча, и имеет она в виду вас. Идите же, деточки, домой и живите в мире, и пусть ваш отец на том свете будет добрым ходатаем перед Богом за вас, за нас и за весь наш народ.
Таков был приговор реб Иойзефла, и все разошлись по домам.
В следующую субботу Мееры и Шнееры пришли в синагогу и молились, стоя у дверей. Сколько их ни просили — служка Азриел, с одной стороны, и раввин Иойзефл, с другой стороны, — они ни в какую не соглашались сесть у восточной стены.
Если кто не прочь приобрести по сходной цене в собственность «город» у восточной стены в старой касриловской синагоге, по соседству с «городом» раввина реб Иойзефла, пусть обратится в Касриловку к сыновьям реб Шимшна — к Мееру и Шнееру — все равно к кому: он будет отдан задешево, потому что никто его не занимает — ни Меер, ни Шнеер. Пустует «город» — грех перед Богом!
Великий переполох среди маленьких людей
(Поэма)
Глава первая Автор отводит душу в беседе со своими героями
По-видимому, так уже предначертано Касриловке свыше, что ее жителям положено испытать больше горя, чем всем людям на белом свете. Разбушевался ли где мор, навалилась ли на кого напасть, стряслось ли с кем несчастье, обрушилась ли кара Господня, бедствие, наказание — ничто их не минует, ничто не оставляет равнодушными, и всё они принимают к сердцу ближе, чем все люди на белом свете. Ну, скажем, неудивительно, что они столько пережили, если помните, из-за дела Дрейфуса, — в конце концов, он все-таки наш, свой, а свое, как говорится, не чужое. Но чем вы объясните их страдания по поводу буров, которых англичане победили и безжалостно истребили? Мало, что ли, волнений было тогда в Касриловке? Боже, Боже! Сколько крови было из-за этого пролито в старой касриловской синагоге! Но не пугайтесь, уж не подумали ли вы, чего доброго, что там взаправду лилась кровь? Боже упаси! Жители Касриловки далеки от кровопролитий; касриловец, завидя издали порез на пальце, падает в обморок. Здесь речь идет совсем о другом; здесь имеются в виду их муки, душевные терзания, чувство стыда. А из-за чего, подумали бы вы? Из-за того только, что люди не могут прийти к единодушному мнению; если один что-либо утверждает, то другой непременно в том усомнится: а не наоборот ли? Один, скажем, принимает сторону буров и встает на защиту их прав: с какой, дескать, стати, с чего, собственно, привязались к бедному народу, который никого не трогает, а хочет только одного — мирно жить и спокойно трудиться на своей земле? Приходит другой и выступает в роли ходатая по делам англичан, приводит неопровержимые доказательства того, что англичане самые образованные во всем мире люди. «Выродок! При чем тут образованность, если людей крошат, как капусту!» — «Тут-то оно и видно, что вы глупая скотина!» — «Сами вы скотина в образе осла!..» В итоге — оплеухи, свидетели, жалобы, мировой суд, всяческая пакость! А по существу, казалось бы, вы, касриловские бедняки, нищие, оборвыши, попрошайки, — какое касательство к вам имеет страна, находящаяся где-то у черта на рогах, в самой Африке? Или, к примеру, так уж вам обязательно болеть душой за Сербию, где каким-то офицерам, проснувшимся однажды среди ночи, взбрело в голову напасть и убить царя Александра, царицу Драгу и выбросить их из окна на улицу? Неслыханно, говорите вы, разве можно напасть на человека, когда тот спит, и прикончить его? Это пристало, говорите вы, дикарям, людоедам где-то там, в пустынях! Но я спрашиваю о другом: почему это тревожит вас больше, чем всех других? У вас так-таки нет никаких иных забот? Вы уже поженили, выдали замуж, обеспечили всех детей, управились со всеми делами? Я спрашиваю, что у вас за манера всюду совать свой нос? Верьте мне, мир прекрасно обойдется без вас, и каждый, надо думать, сам сладит со своей судьбой!..
Автор просит читателя простить ему, что он обращает к своим касриловским героям такие суровые слова! Я, понимаешь ли, дорогой друг, сам касриловский. Там я родился, там вырос, там окончил все хедеры и школы, там я, на свое счастье, женился и оттуда позднее пустился на своем утлом суденышке в плавание по великому, шумному, широкому морю, которое называется «жизнь», где волны вздымаются выше домов. И хотя все мы захвачены и затянуты оглушительным водоворотом, я еще ни на минуту тем не менее не забыл мою любимую, милую родину — Касриловку, да продлятся дни ее, не забыл и любезных сердцу моему братьев, касриловских евреев, дай Бог им плодиться и множиться; и всякий раз, когда здесь у нас случается беда, горе, напасть, несчастье, мне непременно думается: что же творится теперь там, в моей отчизне?.. Касриловка, надо вам знать, как она ни бедна, как ни одинока и заброшена, все же связана со всем остальным миром какой-то такой чудесной проволокой, что малейший удар по одному ее концу тотчас отдается в другом конце! Можно сказать и так: Касриловка подобна ребенку во чреве матери, который связан, сращен с матерью пуповиной и чувствует все одновременно с ней: больно матери — больно ребенку, больно ребенку — больно матери. Удивляет меня только одно: почему Касриловка так чувствительна к горестям и бедам всех на свете людей и никто, никто не чувствует боли самой Касриловки; никто, никто не интересуется касриловцами? Касриловка у мира — что-то вроде пасынка, который при несчастье, не дай Бог, или в доме опасно больного раньше всех проникается сознанием нависшей угрозы, больше всех терзается, неутомимо прислуживает больному, не спит ночей, вконец изводится, про врагов наших будь сказано! Но если пасынок свалится с ног и сам заболеет — ничего страшного! — он будет отлеживаться где-нибудь в уголке наедине со своей болезнью, пылать от жара, изнывать от жажды, умирать с голоду — никто, можете быть уверены, никто на него не оглянется…