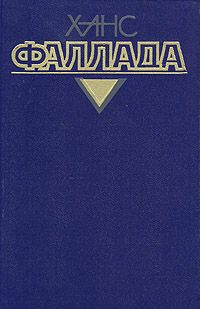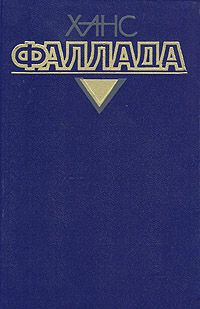Кельнер все еще говорит, говорит, сам себя распаляя, фон Штудман слушает, приветливый, внимательный, вставит время от времени скупое слово, где кивнет, где покачает головой. «В нем больше нет жизни, — решает ротмистр. — Отгорел. Угас… А может быть, — думает он с внезапным испугом, — я тоже отгорел и угас, только сам того не замечаю?»
И тут совершенно неожиданно Штудман произнес одну-единственную фразу. Кельнер, опешив, сразу умолк. Штудман еще раз кивнул ему головой и подошел к столику друга.
— Так, — сказал он, усаживаясь, и его лицо сразу оживилось, — теперь, кажется, я могу выкроить полчаса времени. Если, впрочем, ничего не случится. — И он подбадривающе улыбнулся Праквицу: — Всегда что-нибудь да случается.
— Много работать приходится? — спросил Праквиц, несколько смущенный.
— Господи, работать!.. — Штудман усмехнулся. — Если ты спросишь у других, у здешних боев на лифте, или у кельнеров, или у швейцаров, они тебе скажут, что я вовсе ничего не делаю, так только слоняюсь зря. И все-таки к вечеру я так безобразно устаю, как мы уставали разве что в те дни, когда у нас бывали эскадронные учения и старик нас муштровал.
— И здесь, верно, тоже есть кто-нибудь вроде нашего старика?
— Еще бы! И не один — десять! Пятнадцать! Главный директор, три директора, четыре замдиректора, три управляющих, два юрисконсульта…
— Хватит, довольно!
— А в целом, не так уж плохо. Много общего с военной службой. Приказано — исполняй. Безупречная организация…
— Но ведь народ все штатский… — сказал задумчиво фон Праквиц, и думал он при этом о Нейлоэ, где приказы не всегда исполнялись немедленно.
— Конечно, — согласился Штудман. — Здесь больше свободы, нет той принудительности. Но тем тяжелее, сказал бы я, для каждого в отдельности. Тебе что-то приказывают, а ты не знаешь в точности, вправе ли тот давать такой приказ. Нет, понимаешь ты, в подчинении точно установленных границ…
— Но так оно бывало и у нас, — заметил Праквиц. — Какой-нибудь там адъютант… не правда ли?
— Конечно, конечно. Но в общем здесь, можно сказать, образцовая организация, первоклассное гигантское предприятие. Взять хотя бы наши бельевые шкафы… Или кухню. Или бюро закупок. Тут, скажу я тебе, есть на что посмотреть!
— Так что для тебя это, пожалуй, даже занимательно? — осторожно спросил ротмистр.
Оживление фон Штудмана угасло.
— Господи, занимательно! Да, возможно. Но дело ведь не в этом. Жить-то надо, не так ли? Жить дальше, невзирая ни на что. Просто жить и жить. Хоть раньше мы на этот счет думали иначе.
Праквиц испытующе смотрел в потускневшее лицо собеседника. «Что значит надо?» — подумал он вскользь, с некоторым раздражением. И найдя только одно возможное объяснение, спросил вслух:
— Ты женат? У тебя дети?
— Женат? — спросил Штудман в крайнем изумлении. — Да нет! Этого у меня и в мыслях не было!
— Нет, нет, разумеется, — сказал виновато ротмистр.
— А в сущности почему бы и нет? Но как-то не так сложилось, — сказал раздумчиво фон Штудман. — А сейчас? Невозможно! Когда марка со дня на день все больше обесценивается, когда и для себя-то, сколько ни работай, никак денег не наскребешь.
— Деньги?.. Мусор! — отрезал ротмистр.
— Да, конечно, — ответил тихо Штудман. — Мусор, я тебя понимаю. Я и вопрос твой понял правильно, или скорее твою мысль. Почему я ради такого «мусора» работаю здесь на этой должности, работаю не по желанию, вот что ты имел в виду… — Праквиц попробовал бурно запротестовать. — Ах, не говори, Праквиц! — сказал фон Штудман впервые с какой-то теплотой. — Я же тебя знаю! «Деньги — мусор!»… это для тебя не только мудрость времен инфляции, ты и раньше мыслил в общем так же. Ты?.. Мы все! Во всяком случае, деньги были чем-то, само собою разумеющимся. Получали, кто сколько, из дому да еще кое-какие гроши в полку, о деньгах разговору не было. Если мы не могли за что-нибудь сразу уплатить, значит, пусть человек подождет. Так ведь это было? Деньги были чем-то таким, о чем не стоило думать…
Праквиц сомнительно покачал головой и хотел что-то возразить. Но Штудман опередил его:
— Извини меня, Праквиц, так оно, примерно, и было. Но сегодня я задаю себе вопрос… Нет, без всякого вопроса, я совершенно уверен, что все мы тогда решительно на этот счет заблуждались, мы понятия не имели о том, как устроен мир. Деньги, как я открыл позже, важная статья, о них очень стоит думать…
— Деньги! — возмутился фон Праквиц. — Будь то еще настоящие деньги! А то бумажный хлам…
— Праквиц! — сказал с укоризной Штудман. — А что значит «настоящие» деньги? Их не существует вовсе, как не существует и «ненастоящих» денег. Деньги — это просто то, без чего нельзя жить, основа жизни, хлеб, который мы должны есть каждый день, чтобы просуществовать, одежда, которую должны носить, чтоб не замерзнуть…
— Это все метафизика! — вскричал раздраженно фон Праквиц. — Деньги очень простая вещь! Деньги — это нечто иное… то есть так было раньше, когда еще ходила золотая монета, а с нею наряду и кредитки, но кредитки-то были совсем не те, потому что за них получали золото… Так что деньги, безразлично какие… Словом, ты меня понимаешь… — Он вдруг разозлился на самого себя, на свой бессмысленный лепет: неужели нельзя ясно и верно изложить то, что так ясно ощущаешь? — Словом, — заключил он, — имея деньги, я хочу знать, что я могу на них купить.
— Да, конечно, — сказал Штудман. Он точно и не заметил смущения друга и бодро продолжал развивать свою мысль. — Мы, конечно, ошибались. Я понял, что девяносто девять процентов бьются как рыба об лед ради денег, что они день и ночь думают о деньгах, говорят о них, распределяют их, экономят, прикидывают и так и сяк, и опять сначала — короче сказать, что деньги есть то, вокруг чего вертится мир. Что мы до смешного далеки от жизни, когда не думаем о деньгах, не хотим о них говорить — о самом важном на свете!
— Но разве это правильно?! — вскричал Праквиц в ужасе перед новым мировоззрением своего друга. — Разве достойно?.. Жить только для того, чтобы утолить свой жалкий голод?
— Конечно, неправильно. Конечно, недостойно, — согласился Штудман. — Но никто о том не беспокоится — так, мол, оно есть и пусть. Но если это так, нельзя закрывать на это глаза — этим нужно заняться вплотную. И если считаешь это недостойным, нужно задать себе вопрос: как это изменить?
— Штудман, — спросил фон Праквиц, в полном смятении и отчаянии, Штудман, а ты случайно не социалист?
На одну секунду отставной обер-лейтенант смутился, словно его заподозрили в убийстве из-за угла.
— Праквиц, — сказал он, — мой старый боевой товарищ, ведь социалисты думают о деньгах в точности то же, что ты! Только они хотели бы отнять у тебя деньги для себя самих. Нет, Праквиц, я отнюдь не социалист. И никогда им не буду.
— Но что же ты тогда? — спросил фон Праквиц. — Должен же ты в конце концов принадлежать к какой-нибудь группе или партии?
— Как так?.. — спросил фон Штудман. — Почему, собственно, должен?
— Да не знаю, — растерялся фон Праквиц. — Каждый из нас в конце концов к чему-то примыкает, — хоть те же выборы взять… Так или иначе надо же определиться, вступить в ряды. Просто, знаешь… этого требует порядочность!
— А если меня ваши порядки не устраивают? — спросил фон Штудман.
— Да… — протянул Праквиц. — Помню, — размечтался он вслух, — был у меня один паренек в эскадроне, один такой хлюпик, как мы тогда выражались, сектант один… как его звали?.. Григолейт, да, Григолейт! Очень приличный, порядочный человек. Но отказывался брать в руки ружье или саблю. Уговоры не помогали, зуботычины не помогали, взыскания не помогали. «Слушаюсь, господин лейтенант! — говорил он (я был тогда лейтенантом, дело было еще до войны), но мне нельзя. У вас свой порядок, а у меня свой. А раз у меня свой порядок, мне нельзя его преступать. Когда-нибудь мой порядок станет и вашим…» Такой, понимаешь, человечек, сектант какой-то, пацифист, но приличного сорта пацифист, не из этих шкурников, которые кричат «долой войну!», потому что сами они трусы… Понятное дело, можно было легко превратить ему жизнь в сущий ад. Но старик наш был разумный человек и сказал: «Он просто несчастный идиот!» Так его и списали со счета по пятнадцатой, знаешь, статье — хроническая душевная болезнь…
Ротмистр, задумавшись, молчал; он, может быть, видел перед собой толстого Григолейта, круглоголового с льняными волосами, нисколько не похожего на мученика.
Но Штудман звонко расхохотался.
— Ох, Праквиц! — воскликнул он. — Ты все тот же! И знаешь, сейчас, когда ты выдал мне, сам того не замечая, свидетельство на идиотизм и хроническую душевную болезнь, это мне живо напомнило, как ты однажды, после маневров, чертовски неудачно проведенных нашим стариком, рассказал ему в утешение про одного майора, который умудрился на разборе маневров перед всем генералитетом свалиться с лошади и все-таки не получил синего конверта! А то еще, помнишь…