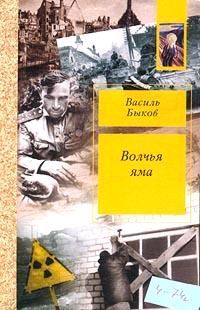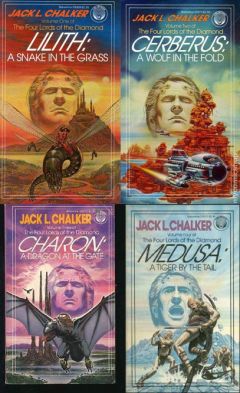Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк.
— Ну? Кто там? — тревожно спросила Зоська.
— Садись. Куда собралась? — вместо ответа бросил Антон и сел на солому.
Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклокоченными без шапки волосами. Лицо у Антона выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку.
— Полицаи, кто же, — запоздало ответил он с раздражением, уронив с колен длинные руки. Зоська шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок.
— Что же теперь делать? — озабоченно спросила она.
— Что сделаешь? Сидеть надо.
Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро, почему он так вдруг переменился, обвял и стал так мало похож на себя прежнего? — думала Зоська.
Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял: полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех, кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь.
Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро опомнился от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности, в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания, ночных следов в снегу нигде не осталось, все хорошо заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова, но смысл разговора уловить было трудно. Однако первое услышанное слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал «Сталинград», потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово и едва различил затем «дали» или, может быть, «взяли». Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь «наступление». Далее, сколько он ни вслушивался, понять ничего не мог — сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы.
Опасность вроде бы миновала, полицаи уехали, но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтересованный тем, что услышал. В каком смысле они упоминали о Сталинграде? Что значит «дали»? Сдали или, может быть, взяли? И что может означать «наступление»? Чье наступление? А возможно, они говорили: отступление? Нет, скорее всего смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои, и, наверно, взяли наконец этот далекий город на Волге.
Но что же тогда получалось?
Совершенно растерянный и озадаченный, он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська спрашивала его о чем-то, но он не слушал ее, он думал, что́ все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах, он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу: надо спешить! Надо, пока не поздно, кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад, жизнь, коль ничего не вышло с советской.
— Зось, ты понимаешь? — сказал он, не поворачивая к ней головы. — Немцы Сталинград взяли.
Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только моргнула и с наивным видом спросила:
— Это когда?
— Не знаю, — пожал он плечами. — Слыхал, полицаи там разговаривали.
— Враки, наверно, — подумав, сказала Зоська. — Хотя, может, и правда. Столько понахапали, что им. Сила!
— Сила, да, — согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, деликатным прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок.
— Застегнись, а то холодно. Полицаев много поехало?
— Человек шесть, наверно.
— Поехали мимо?
— Ну. Тут рядом дорога.
— Это хуже. И печку затопить нельзя?
— Печку нельзя, — сказал он и добавил не очень решительно: — Может, выйдем и потопаем в Скидель?
— Днем? Ну что ты...
Нет, кажется, она оставалась при прежнем решении, подумал Антон, и намерена выполнять данное ей задание. А то, что вот-вот могла окончиться война и немцы всей своей мощью навалятся на их пущу и, как зайцев, перестреляют всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях.
— Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград? — спросил Антон.
— Далеко, — сказала Зоська.
— Вот это ответ! — кисло усмехнулся Антон. — В школе за такой ответ ставили двойку.
Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив, положила руки ему на плечи.
— Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали, — сказала она со вздохом.
— Как бы не так, — сказал он и нетерпеливо высвободился. — Кажется, главный экзамен еще впереди.
— Наверно, — охотно согласилась Зоська. — Так трудно добраться до этого Скиделя, а там что будет — одному богу известно.
— Вот именно, — подтвердил он и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. — Поэтому слушай. Давай, пока есть время, обмозгуем все. Чтоб в дураках не остаться.
— Давай! — сказала она. — Только... Ты побудь, я на минутку...
Она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Антон стоял, занятый своими мыслями, они кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения которой слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно, видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу, придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська к тому же не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место: то, что касалось Копыцкого. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы?
Антон топтался на примятой соломе каморки, задумчиво глядя под ноги. В глаза ему попался растоптанный окурок на полу, нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты — тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить тут мог кто угодно — от немцев до партизан, наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него — из-под соломы вытянулся целый клубок замусоленных, ссохшихся от крови бинтов, которые он брезгливо отбросил в сторону носком сапога и стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно бледным лицом.
— Антон! Там...
— Что такое?
— Там убитые!
Убитые — не живые, убитых можно было не бояться, подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний, с обрушенной крышей, конец оборы.
— Вот, видишь? Я гляжу, думала — камни, подхожу, а это убитые. Глядь, Боже! Да это же наш Суровец! — вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська.
Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые.
Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц на борту — такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного, разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые, в грязных потеках ноги, с правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужей смерзлась на грязном, в навозе, земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел, согнувшись и низко уронив голову, другой партизан, в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяных дыры от пуль, вышедших где-то спереди, — все там у него, на груди, животе и коленях, было залито заскорузлой спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии, он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.