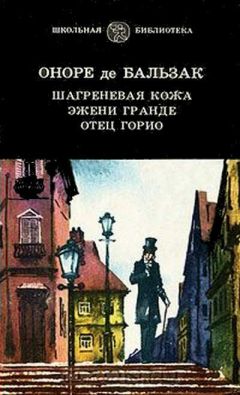— Если вам понадобится человек, готовый пойти взорвать мину… — перебил ее Эжен. — Так что же? — сказала она.
Он ударил себя в грудь, улыбнулся в ответ на улыбку кузины и вышел. Было пять часов. Эжен был голоден и опасался опоздать к обеду. Но само опасение делало еще ощутительнее счастье носиться вихрем по Парижу. Это бессознательное наслаждение позволяло ему всецело отдаться осаждавшим его мыслям. Юноша его лет, оскорбленный презрением, горячится, приходит в ярость, грозит кулаком всему обществу, хочет отомстить за себя и в то же время сомневается в себе. Растиньяк был удручен в эту минуту словами: «Вы заперли перед собой двери дома графини».
«Пойду! — думал он. — И если госпожа де Босеан окажется права, если приказано не пускать меня… я… госпожа де Ресто найдет меня во всех салонах, где она бывает. Я научусь фехтовать, стрелять из пистолета, я убью ее Максима!» — «А деньги! — кричал ему рассудок, — Где же ты возьмешь денег?»
Выставленное напоказ богатство графини де Ресто внезапно заблистало перед его глазами. Он увидел там роскошь, к которой по всем признакам была так неравнодушна дочь Горио, позолоту, ценные вещи, бросающиеся в глаза, безвкусную пышность выскочек, расточительность содержанки. Это манящее видение вдруг стушевалось перед грандиозным особняком де Босеанов. Воображение Эжена, перенесясь в высшие сферы парижского общества, навело студента на множество дурных мыслей, расширяя его кругозор и делая растяжимой совесть. Свет предстал перед его глазами без прикрас: богачи, не считающиеся ни с законами, ни с моралью; он понял, что богатство — ultima vatio mundi[8]. «Вотрен прав — богатство высшая добродетель», — подумал он.
Приехав на улицу Нев-Сент-Женевьев, он вбежал к себе наверх, спустился, чтобы отдать десять франков кучеру, и вошел в вонючую столовую, где увидел, словно животных у кормушки, восемнадцать насыщавшихся сотрапезников. Зрелище этого убожества, вид этой столовой вызвали в нем отвращение. Переход был слишком резок, контраст слишком разителен; непомерное тщеславие обуяло его. С одной стороны, свежие прелестные образы изысканнейшего светского общества, молодые живые лица, обрамленные чудесами искусства и роскоши, головы, исполненные поэзии и страсти; с другой — зловещие картины, окаймленные грязью, и лица, на которых запечатлелись лишь нити и механизм страстей. Эжену вспомнились наставления, вырвавшиеся у госпожи де Босеан под влиянием гнева — гнева покинутой женщины, и ее заманчивые предложения; нищета явилась комментарием к ним. Для достижения богатства Растиньяк решил проложить два параллельных хода; опереться и на науку и на любовь, стать светским львом и ученым. Сколько ребячества оставалось еще в нем! Две эти линии — кривые, приближающиеся одна к другой, но никогда не пересекающиеся.
— Вы очень мрачны, господин маркиз, — сказал Вотрен, бросая на студента один из тех взглядов, которыми он умел, казалось, проникать в самые сокровенные тайны сердца.
— Я не расположен сносить шутки тех, кто называет меня господином маркизом, — ответил тот. — Надо иметь сто тысяч франков годового дохода, чтобы быть здесь настоящим маркизом, а кто живет в Доме Воке, того фортуна не балует.
Вотрен взглянул на Растиньяка отечески и презрительно, как бы говоря: «Молокосос! Да я тебя одним пальцем раздавлю!» Затем ответил:
— Вы не в духе; может быть, вам не повезло у прекрасной графини де Ресто?
— Она не велела меня принимать, так как я сказал, что ее отец ест за одним столом с нами! — воскликнул Растиньяк.
Все обедающие переглянулись. Папаша Горио опустил глаза и отвернулся, чтобы вытереть слезы.
— Ваш табак попал мне в глаз, — сказал он соседу.
— Отныне, кто станет издеваться над папашей Горио, будет иметь дело со мной, — произнес Эжен, глядя на соседа старого макаронщика. — Он лучше всех нас. Мои слова, конечно, не относятся к дамам, — прибавил он, поворачиваясь к мадемуазель Тайфер.
Эта фраза положила конец разговорам. Эжен произнес ее с таким видом, что обедающие прикусили языки. Только Вотрен промолвил, зубоскаля:
— Надо уметь хорошо владеть шпагой и метко стрелять из пистолета, чтобы принять папашу Горио под свое покровительство и отвечать за него.
— Я так и сделаю, — сказал Эжен.
— Значит, вы открываете сегодня военные действия?
— Может быть, — ответил Растиньяк. — Но я никому не обязан отдавать отчет в своих делах, я ведь не стараюсь угадать, что делают другие по ночам.
Вотрен посмотрел на Растиньяка исподлобья.
— Кто не хочет, мальчик мой, быть одураченным марионетками, тот должен войти в балаган, а не ограничиваться подсматриванием в щелки. Прекратим разговор, — прибавил он, видя, что Эжен готов вскипеть. — Мы побеседуем с вами наедине, когда вам будет угодно.
Обед прошел мрачно и холодно. Папаша Горио, поглощенный глубокой скорбью, вызванной в нем фразой студента, не понял, что настроение умов изменилось в его пользу и что его принял под защиту молодой человек, способный положить конец травле.
— Так у господина Горио, оказывается, дочь — графиня? — вполголоса спросила госпожа Воке.
— А другая — баронесса, — ответил Растиньяк.
— Он только на это и способен, — сказал Бьяншон Растиньяку. — Я щупал ему голову: у него одна только шишка — шишка отцовства, он будет Вечным Отцом.
Эжен был настроен серьезно, и шутка Бьяншона не рассмешила его. Он хотел последовать советам госпожи де Босеан и ломал себе голову над тем, где и как раздобыть денег. В тревоге взирал он на развернувшиеся перед его глазами саванны света, пустынные и изобильные в то же время. По окончании обеда все разошлись, оставив его одного в столовой.
— Значит, вы видели мою дочь? — сказал Горио взволнованным голосом.
Пробужденный от задумчивости этим добряком, Эжен взял его руку и с умилением пристально посмотрел на него.
— Вы славный и достойный человек, — ответил он. — Мы поговорим о ваших дочерях потом.
Он встал, не слушая папаши Горио, и отправился в свою комнату, где написал матери следующее письмо:
«Дорогая мама, подумай, нет ли у тебя третьего соска, который напитал бы меня. Положение мое таково, что я могу быстро пойти в гору. Мне надо иметь тысячу двести франков, во что бы то ни стало. Не говори ничего о моей просьбе отцу, он, может быть, воспротивится этому, а если я не получу этих денег, то впаду в отчаяние, которое может привести меня к самоубийству. Объясню тебе все подробно, когда мы увидимся; а то пришлось бы исписать тома, чтобы ты поняла мое положение. Я не проигрался, дорогая мамочка, не наделал долгов; но, если ты хочешь сохранить жизнь, которую ты мне дала, то найди эту сумму. Словом, я бываю у виконтессы де Босеан, она взяла меня под свое покровительство. Я должен бывать в свете, а у меня нет ни су, чтобы иметь чистые перчатки. Я готов есть один хлеб, пить одну воду, поститься, коли надо, но я не могу обойтись без орудий, которыми в этих краях вскапывают виноградники. Мне предстоит или пробить себе дорогу, или увязнуть в грязи. Я знаю, какие надежды, вы возлагаете на меня, и хочу ускорить их осуществление. Мамочка, продай что-нибудь из своих фамильных драгоценностей, вскоре я заменю их другими. Я достаточно хорошо знаю положение нашей семьи и сумею оценить такую жертву, и ты должна верить, что она будет не напрасной, — иначе я оказался бы чудовищем. Лишь крайняя нужда могла исторгнуть у меня эту просьбу — так и смотри на нее. Все наше будущее зависит от этого пособия: с этими деньгами я должен открыть военные действия, ибо жизнь в Париже представляет непрерывную битву. Если для пополнения этой суммы нет иного средства, кроме продажи тетушкиных кружев, скажи ей, что я ей пришлю другие, еще лучше!» И т. д.
Он написал обеим сестрам, прося прислать их сбережения, а чтобы в семье не было разговоров о жертве, которую они, конечно, с величайшей радостью принесут ему, он обратился к их деликатности, затронув струны чести, столь туго натянутые и столь отзывчивые в юных сердцах. Однако, окончив эти письма, Эжен ощутил невольную дрожь: он содрогался, он трепетал. Молодой честолюбец знал безупречное благородство этих погребенных в уединении душ, ему было известно, на какие лишения он обрекает сестер и как велико будет вместе с тем их счастье, с какой радостью будут беседовать они украдкой, в укромном уголке сада, о любимом брате. Его сознание озарилось вдруг ярким светом, и ему показалось, что он видит, как сестры пересчитывают тайком свое маленькое богатство, как они пускают в ход лукавую девичью изобретательность, чтобы послать ему эти деньги потихоньку, и, совершая подвиг, впервые прибегают к обману. «Сердце сестры — алмаз чистоты, бездна нежности!» — подумал он. Ему делалось стыдно, что он написал им. Какая сила заключена в их обетах, как чист порыв их душ к небесам! С каким упоением готовы они пожертвовать собой! Какое горе будет для его матери, если она не сможет выслать всю сумму! И эти прекрасные чувства, эти ужасные жертвы послужат для него лишь ступенькой, чтобы добиться благосклонности Дельфины де Нусинген. Несколько слезинок, последние крупицы фимиама, брошенные на священный алтарь семьи, выкатились из его глаз. В волнении, полный отчаяния, ходил он взад и вперед. Папаша Горио, увидя его в таком состоянии через полуотворенную дверь, вошел и сказал: