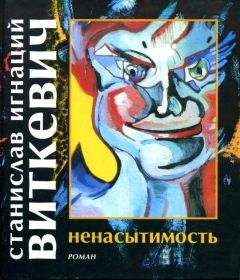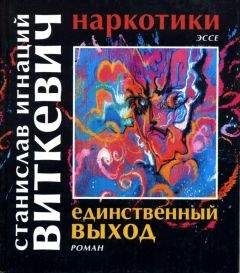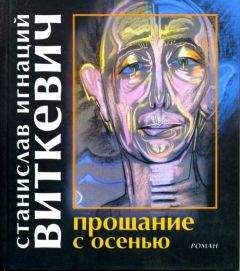Вошла хозяйка дома, невысокая блондинка с острыми скулами, идеально прямым носом и ореховыми зрачками узких глаз. Одухотворенной она казалась, к сожалению, лишь по первому впечатлению. В узких ее губах таилась коварная чувственность, а широкая челюсть придавала ее лицу (если приглядеться) дикое звероподобное выражение. Голос у нее был низкий, металлического тембра, вибрирующий, словно от слез и скрываемой страсти. Тенгер неохотно представил ей Генезипа.
— Прошу вас, господин барон, отужинать с нами, — слегка заискивающе пригласила госпожа Тенгер.
— Обойдемся без титулов, Марина, — резко прервал ее Тенгер. — Конечно, ты, Зипек, останешься на ужин. Не так ли, Зипек? — Тенгер бестактно подчеркнул обращение на «ты». Скорее всего, этим он хотел импонировать жене.
Через холодные сени они перешли в другую часть дома, устроенную по-крестьянски. Двое детей Тенгера хлебали простоквашу. Генезипа подташнивало от запахов и общей психической атмосферы. Несоответствие одной и другой комнат, беседы и действительности неприятно бросалось в глаза. Однако и в этом проявлялась неприятная сила хозяина дома. «Как же отвратительна иногда бывает сила», — думал Генезип, наблюдая за семейством как единым целым. Мысль о физической близости родителей, несмотря на всю его неопытность, была до боли неприятной. Через открытую дверь, ведущую в другую комнату, было видно широкое супружеское ложе — наглядный символ этой отвратительной комбинации тел. Половые отношения этой пары, должно быть, были невыносимым страданием, сравнимым с сильнейшим кожным «malaise» во время гриппа, с неимоверным занудством третьеразрядных гостей, с тюремным отчаянием, с унынием цепного пса, наблюдающего за играми других, свободных собак. Чета Тенгеров вместе напоминала такого пса — о двух головах. Но было в них и что-то болезненно сладострастное. (Госпожа Тенгер начинала нравиться Генезипу, но кристаллизации чувства мешал образ небезызвестной ведьмы.) Спустить бы их с цепи, — помечтал он. Все и было на самом деле так, как он думал, но Тенгеру гениально удавалась сложная сублимация своих страданий, и хотя теоретически он знал о другой, счастливой жизни, без постоянно болезненного, как мочевой пузырь больного уремией, уныния, иной образ жизни для него был практически невозможен, как тень от конуса на шаре в четвертом измерении. Например, такие банальные вещи, как поездка в собственном автомобиле по французской Ривьере, лангусты, шампанское и дорогие девицы представлялись ему столь же абстрактными, как символическая логика Афаназоля Бенца. Все повседневные неурядицы проходили через осмотическую мембрану чистых звуков, весь трюизм бесстыдного ежедневия трансформировался в другое измерение и тем самым оказывался оправдан. Но как именно это происходило — не знал никто, даже сам Тенгер. Переход был мгновенным, как от пьянства к кокаину — «czik i gotowo». «Тайна гения», — говорил иногда в пьяном виде о себе изобретатель этого метода.
Тяжелое молчание угнетало всех. Даже дети, с которыми безуспешно пытался заигрывать Путрицид, почувствовали тяжесть атмосферы, сгустившейся, как белок под воздействием уксуса, под влиянием незваного гостя и бремени состоявшегося разговора. [Во время каникул Зипеку никуда не позволяли ходить, кроме как на спортивные прогулки с егерем Зигфридом, поэтому он не знал даже ближайших соседей. Он не участвовал даже в домашних приемах. Такой системы изоляции придерживался старый Капен, который хотел, чтобы сын получил интересные впечатления тогда, когда станет достойным их. И вот теперь, когда Зипек вдруг «дозрел» — не потому, что получил аттестат зрелости, а испытав ощущения спущенной с цепи собаки, — самые незначительные вещи производили на него убийственное впечатление. Он почти не верил в свою свободу — боялся, что очнется от этого состояния, как ото сна.]
Когда он уже прощался после ужина, так и не утолив жажды познания мучавшей его тайны, Тенгер вдруг ни с того ни с сего сказал... [Не мог он так просто, в половине десятого расстаться со своей новой жертвой. Перспектива проявить на этом экране свою полусгнившую в унынии сущность была слишком заманчива. К тому же ему требовалась конкретная победа над красивым и противным ему юношей — не только над его душой, но и над его телом, — чтобы вновь ощутить свою мужскую силу. Не в этом ли заключается таинственный фактор, способствующий созданию деформированных образов действительности? Самая малая деталь удерживает конструкцию от развала на отдельные части. Внутреннее напряжение было поистине страшным. «Wy żywiotie na bolszoj szczot, gaspadin Tengier», — так сказал некогда Бехметьев. Но никто не отдавал себе отчета в тонкости этой комбинации. Да и кого это интересует? Может быть, автора какой-нибудь биографической книги, лет через сто, когда уже ничего нельзя будет проверить. А последняя симфония, брезжащая в его пространственном воображении как его наивысшее достижение, не получила пока достаточного допинга, чтобы появиться на свет из кровоточащего авторского нутра. Впрочем, это только называлось симфонией — это была поистине Вавилонская башня несочетаемых между собой тем, в возможность построения которой не верил иногда сам несостоявшийся ее автор. Может, это было его последнее творение? А что потом? За мглистыми очертаниями гигантского замысла простиралась необозримая пустота. При этом невозможность услышать свои симфонические произведения в исполнении оркестра доводила Тенгера до дикого отчаяния, граничившего с безумием. Это вынужденное «воздержание» развило в нем такое дьявольски изощренное воображение, что он слышал невозможные для других сочетания звуков, их ритмы и краски. Но это ничего для него не значило — ничего, черт побери!]
Тенгер сказал:
— Пойдем со мной. Навестим князя Базилия в его обители. Это будет своего рода испытание.
— У меня нет оружия. (Скит князя находился в глухом лесу, простиравшемся на восток от Людзимира до самого подножия гор.)
— Достаточно моего парабеллума. Подарок тестя.
— Кроме того, в два часа ночи я должен быть у...
— Ах, вот в чем дело. Именно поэтому ты должен пойти со мной. Избыток энергии в первый раз может только скомпрометировать тебя.
Генезип пассивно согласился. Необычность застыла и не двигалась. Им овладело внутреннее бессилие — он был готов на все, — в эту минуту он не боялся даже княгини. От сегодняшнего дня и всего будущего повеяло унынием предопределенных, неотменимых фактов — так воспринял он последние изменения в своей жизни. Он спокойно думал о том, что отец, возможно, умирает там, за лесом, среди огромного количества произведенного им пива, и не чувствовал никаких угрызений совести, что оставил его. В глубине души, за небольшой (психологической) ширмочкой, он даже радовался тому, что теперь он, забитый Зипек, станет главой семьи и возьмет на себя все дела. Единственным диссонансом, нарушавшим складывающуюся гармонию, была проблема эксплуатации труда бесцветных фигур с «другой» стороны жизни. Но это как-нибудь образуется.
— Только вы никогда больше не целуйте меня, — тихо сказал он Тенгеру, когда они шли по скрипучему снегу большого плато, тянувшегося на протяжении четырех километров, к чернеющей на горизонте Людзимирской пуще. Переливаясь всеми цветами радуги, мерцали звезды. Над призрачными вершинами гор стремился на запад Орион, а на востоке из-за горизонта вставал огромный красноватый Арктур. Похожее на балдахин аметистовое небо, высветленное на западе только что скрывшимся серпом луны, куполом нависало над вымершей землей с каким-то фальшивым величием. «Все мы пленники самих себя и этих звезд», — неясно подумал Генезип. Пока он учился в гимназии, ему казалось, что после ее окончания откроется возможность произвольно выбрать будущее, однако теперь она сводилась к неизбежному тождеству себя со всем окружающим миром. В предвидении предопределенности жизни, характера и загадочной смерти в молодом возрасте — возможно, еще при жизни — умирали, так и не родившись, дни и вечера, наполненные ожиданиями и событиями. Время опять остановилось, но иначе — о, как иначе! — не как пружина для будущего прыжка, а просто от скуки. Беспредметный страх (не перед духами), прежде неведомый Генезипу, вызывали в нем ровные сосновые пни и голубоватые ветки можжевельника. Понапрасну искал он в себе послеобеденную энергию. Он был мертв. Не хотелось даже разговаривать. «Куда меня тащит эта образина, чего ему от меня надо!»
Тенгер целый час тяжело молчал. Вдруг он остановился и выхватил пистолет из кобуры на ремне.
— Волки, — коротко сказал он.
Генезип глянул в гущу молодого леска и увидел светящийся желтоватый кружок. Тут же мигнул и второй, а затем еще три пары. «Боком глядел», — мгновенно подумал Генезип. Тенгер не был смельчаком, но у него была мания: испытывать свою стойкость. Волки часто встречались ему, они не ходили здесь стаями, самое большее группами по четыре особи, но он никак не мог к ним «привыкнуть». И теперь он излишне разволновался: взял да и разрядил всю обойму в направлении поблескивающих светлячков. Гулкое эхо выстрелов раздалось в глубине заснеженного бора. Светлячки исчезли. Тенгер порылся в сумке — запасной обоймы не было. Генезип догадался об этом по его движениям. Он достал из кармана небольшой ножик — свое единственное оружие. Как всегда, он не боялся в самый момент опасности — так у него уже бывало несколько раз — страх приходил, как правило, несколькими днями позже. Но сердце его тревожно сжалось, а с ним и все, что ниже, включая эти странные кишочки, полного предназначения которых он еще не понимал. «Уже никогда, никогда», — подумал он слезливо с острой жалостью к самому себе, памятуя в то же время о своей прежней «мальчишеской» храбрости. Ему вновь привиделись эмалевые всезнающие глаза старой «вляни» (выражение Тенгера навсегда связалось у него с образом княгини), которая в этот момент без всяких треволнений поджидала его в своем малиновом будуаре. Два часа ночи показались ему никогда не достижимой вечностью, княгиню он ненавидел сейчас как заклятого врага, как символ несостоявшейся жизни, которой он здесь, на этой проклятой лесной дороге мог навсегда лишиться. Если бы он знал, в какие кошмарные времена он вспомнит об этом, в сущности, забавном происшествии — о возможности быть съеденным волками, — не исключено, что он не захотел бы больше жить: вернулся бы к Тенгеру, зарядил пистолет и покончил с собой у Тенгера, или позже, у князя Базилия, или, может быть, после двух часов ночи... Кто знает? Теперь же он чувствовал себя так, словно кто-то хотел забрать у него только что начатый, необыкновенно интересный роман. Он отчетливо осознал, что не знает не только того, кем он будет, но и что и м е н н о он из себя представляет. Перед ним разверзлась бездонная узкая дыра. Мир исчез из-под ног, его словно смыло. Зипек вглядывался в бездну. Но о т к у д а вглядывался? Бездна эта не образовывала пространства... Неведение о себе оборачивалось в то же время высшим прозрением, которое полностью отличалось от состояния, овладевшего им после пробуждения. Сейчас он наверняка знал, что ничего, абсолютно ничего не знает. Непонятен был сам факт существования. Зипек летел и летел в эту бездну, но вдруг падение прекратилось, словно он врезался в сугроб на лесной Людзимирской дороге. «Где я был — Боже! — где я был?!» — Вихрь клубящихся мыслей исчез. Все это так удивило его, что на мгновение он забыл о волках, которые в любой момент могли появиться с другой стороны, сбоку, сзади. Тенгер стоял молча, держа пистолет за дуло. [У него страх всегда трансформировался в отчаяние, что он не запишет того, что содержалось в его огромной волосатой башке, не окончит партитуры набросков из красивой сафьяновой папки, единственной памятной вещи, доставшейся ему от матери, жены органиста в Бжозове. К этой папке он был привязан почти так же, как к детям, которыми гордился наравне со своими жуткими произведениями: такой урод «родил» прелестных, здоровых, как бычки, крестьянских «стервеняток» (так он выражался). Поэтому было странно, что в моменты физиологического страха ему никогда не приходили в голову мысли о детях и их возможных судьбах.]