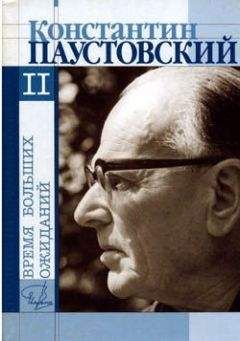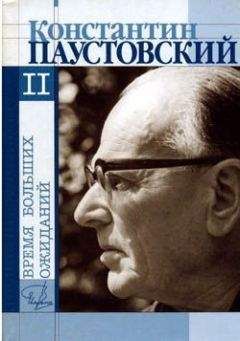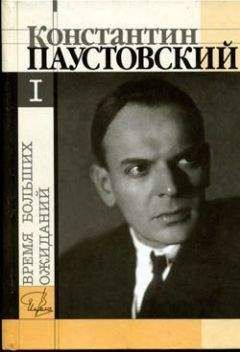Я зашел к Филиппову, долго пил черный кофе и читал в газетах объявления о ташкентском хлопке, пряже, банкирских конторах. Сбивчивые мысли преследовали меня.
Я прочел объявление о цейлонском чае. Зеленые города Цейлона.
Когда я был мальчишкой, в наш порт пришел серый пароход из Индии. Он стал на рейде и поднял желтый флаг, – на борту были больные. С парохода свезли трупы матроса и китайца-поваренка. Они умерли от желтой лихорадки. Я побежал на пристань, но боялся смотреть на них. Я все смотрел на воду, где косыми колоннами просвечивал зеленый солнечный свет.
«Вот она – лихорадка», – подумал я и вспомнил, что в детстве я все лодки из дощечек, и пароходы, и людей, и небо красил в желтый цвет. Может быть, потому, что вырос я в каменистых желтых местах и часто ездил к бабушке в заросшие бурьяном желтые степи, где пыль со шляхов ветер подымал до самого неба.
От ветра хлопали ставни, сыпалась с крыш черепица, в саду сгорала зелень, солнце светило через серое сито, губы лопались и покрывались коркой.
Я боялся воробьиных ночей, когда небо струилось молниями, будто черные птицы били в испуге сотнями фосфорящихся крыльев. Зарницы ручьями низвергались на землю, воробьи падали в пыль, открывали клювы, пищали и умирали от жажды. Воробьиная ночь проносилась без капли дождя. Утром помятая степь дымила гарью и часто колотилось сердце. Колонисты качали головами: «суховей». Зерно высыпалось из колосьев, посвистывали суслики, а я весь день качал из колодца солоноватую воду и поливал сад.
Я ушел от Филиппова. Начался второй приступ лихорадки – бросало в жар, туманилось в глазах.
О чем я думаю? Все это не то. Мне надо что-то решить, ехать туда, на юг, к Хатидже.
Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе – крышка. Вот так скитаться и всюду – в поездах, на пароходах, улицах, в полудни и на рассветах – думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя.
Я остановился. Надо зайти куда-нибудь в кафе и обдумать это.
Я зашел. Это было на Ямской, около Брестского вокзала. Стояли голубые сумерки, пахло цветочными рынками.
«Здесь – мой дом, первое пристанище в чужом городе, – подумал я, садясь за столик. – Кафе – это сборище тех, кому тесно и уныло дома. Это – Гарибальди и Сташевский, Хатидже и я, Роговин – все люди, связанные жизнью в один узел».
Одно вино напоминает о Риме времен Гоголя, другое – о синих гусарах Наполеона, медовых рейнских городах, гитарах и жженке, третье – о темном море, где крепко ругаются матросы и от ливней чернеют паруса.
Разболелась голова. Я встал и пошел домой.
«Эх, если бы сейчас осень! – подумал я с укором. – Я бы снова начал писать». Осенью крепнут от холодного воздуха мысли, уверенно стучит сердце. Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, вся страна стоит, как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью. Сменяются дни, и кажется – заденешь, и день зазвенит, как стекло, и журавли снимутся на зимовку в те страны, имени которых не знаешь.
Прошла неделя. Я получил письмо от Хатидже. Письмо было из Севастополя.
«После твоего письма мне трудно было оставаться на старых местах. Я совершенно спокойна. Во всем огромном мире, среди миллионов людей – мы одни. Кроме тебя, у меня никого нет, и я знаю, что ты вернешься. Очевидно, все, что ты делаешь, – нужно. В твоей жизни будет много потрясений, любви, горя, ты должен пройти через все, но всегда, когда ты захочешь, я буду около тебя.
Я жду тебя и много работаю. Но стоит только подумать, что ты не приедешь, и этот прекрасный город кажется мне ловушкой!»
Всю неделю я не выходил. Не отвечал на стук в дверь, никого не хотел видеть.
Вечером пришел Роговин. Он долго стучал, потом заглянул в замочную скважину.
– Ключом заперто изнутри, – сказал он вслух самому себе и снова стал колотить в дверь.
Я встал и открыл.
– Ну и здорово вы спите. Накурили черт знает как. Откройте окна и бросьте киснуть. Едем сейчас в Братовщину, к Семенову. Он туда переехал на дачу, сегодня справляет новоселье.
Я согласился. Мимо окон трамвая неслись, шумя листвой, свежие бульвары, узкая лента Тверской, черный Пушкин. В пустом дачном вагоне кондуктора светили нам в глаза фонарями, поезд гремел по Сокольнической роще, свистел на закруглениях.
– Вы знаете, – сказал Роговин, – Наташа велела вас привезти.
– Ну и что же?
– Так… Ничего. Ей-богу, так нельзя. Вы заперлись, как зверь. Что вы, боитесь людей? У вас будет бледная немочь, как у офицерской свояченицы.
– Я работаю.
– Так работать нельзя.
Он встал, открыл окно и сказал:
– Я бы хотел о многом написать, да вот – не получается. Семенов пишет о художниках, иконах, кустарных кружевах, а у самого тоска – настоящей книги хочется. Не умеем мы, понимаете, сжать руку в кулак, ударить – раз – и готово! Слоняемся вокруг настоящей темы, около настоящих слов. Лодыри мы. Сам пишешь, а на уме мысль – как бы увильнуть. Конечно, ни черта не выходит. Куда там писать, если побриться лень. Когда пишешь, нужна чистота. Нужно, чтобы было тихо в комнате, свежо, чтобы квартирная хозяйка не лезла с разговорами, чтобы не воняло из кухни, чтобы были чистые и обязательно холодные руки. Понимаете? Надо быть выбритым и чувствовать свои бицепсы. Надо быть крепким, как циркач, как после купанья в море. Вот. А у меня этого нет. Чтобы из русского человека вышел хороший писатель, нужно привить ему английский спортсменский дух, погонять его по морозу, подвести под опасность раз двадцать, пока не привыкнет, бить его боксом, пока из него не выбьешь весь студень. Вот!
Он еще долго говорил о том, как надо писать.
– Семенов, к примеру. Голова всегда болит, в лице – ни кровинки, вместо крови у него лампадное масло. На писательство он смотрит как на священнодействие. Чепуха. Кому он нужен, этот византийский туман?
Он надел кепку, встал и заговорил возбужденно:
– Так же нельзя, поймите. Писать – как ледяной водой обливаться. Первое время жутко, потом привыкнешь.
– Почему же вы так не пишете?
– Я лодырь. Если бы само писалось, было бы здорово. Встал утром – лежит на столе свеженькая глава, пришел вечером – опять свеженькая глава. А я бы только давал указания – надо так, мол, и так. А вот еще одна русская манера писать, – говорил он, когда мы садились в Братовщине на единственного извозчика, – писать на клочках, потом все растеривать.
– Вези, брат, вези, – сказал он извозчику. – Успеешь поторговаться. И это, – опять обратился он ко мне, – в нищей юродивой стране, где каждую мысль надо беречь, как крупицу золота.
В лесу было черно, фыркала лошадь. За деревьями проревел и промчался огненной струей окон сибирский экспресс.
Около дачи при фонарях играли в крокет. Женский голос крикнул: «Игорь, не загоняй шары!» Над соснами стояли северные звезды.
Встретил нас крошечный кадет с фонарем – Игорь.
– Мой крестник, – сказал Роговин.
Игорь шаркнул ногой, голова у него торчала ежом, в глазах был восторг.
– Я разбойник! – крикнул он и побежал на площадку. – Мы с Наташей разбойники. Всех о кол убиваем.
– Как вам нс совестно, – сказала мне Наташа. – Вы ведете себя, как старый бобыль, – прокурились насквозь, прячетесь, – нехорошо. Знакомьтесь. Нину вы знаете. А это ваш брат – журналист, редактор «Синего журнала» – Любимов. Это тоже журналист, вы, кажется, знакомы, Серединский, а это мой крестный сын – Игорь. Вы ему расскажите про море, только пострашней и поинтересней. Миша сидит на даче, пишет. Ну, довольно. Сдавайтесь. Идем на веранду.
На веранде сели за чай, пришел Семенов. Бабочки бились около свечей, падали на стол.
– Первый раз в жизни проигрываю, – сказал Любимов, – Всегда иду ва-банк, и всегда везет, даже когда ставлю собственную голову.
– Когда же это ты ставил? – спросил Серединский.
– В Питере два года назад.
– Питер весьма неромантичный город, – сказал Серединский, – там тесно таким авантюристам, как ты.
– Дело было так. Приехал немец-укротитель Баер с труппой молодых африканских львов. Я пошел его интервьюировать. Баер говорит – львы злые страшно, плохо прирученные, молодые, работать с ними трудно. Потом пошли рассказы – будто его дедушку и бабушку, отца и мать и всех братьев и сестер разорвали львы. Когда лев бросается, стрелять нельзя – можно попасть в публику. Поэтому у укротителя в револьвере только одна боевая пуля, остальные заряды холостые. Он стреляет холостыми, если же видит, что не помогает, видит, что крышка, то последнюю боевую пулю – в себя. Баер показал мне револьвер, я взял его, повертел и спрятал в карман. «В чем дело?» – «Дело в том, говорю, что я не укротитель, но я сойду в клетку с вашими лопоухими львами и просижу пять минут». Баер обалдел. Я вышел, привел фотографа, дал Баеру расписку, что в случае смерти вся вина на мне, вошел в клетку и сел на стул.