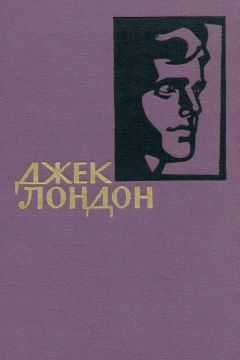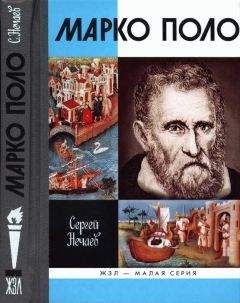– Да где же мой мальчик? – крикнул он уже у двери спальной веранды; там оказалась только китаянка, скромная женщина лет тридцати, которая, приподняв брови, смущенно и растерянно ему улыбнулась.
Это была горничная Паолы, Ой-Ли, названная так Диком много лет назад, потому что она постоянно поднимала тонкие брови и лицо ее всегда казалось удивленным, точно она восклицала: «Ой ли?» Дик взял ее к Паоле почти девочкой из рыбачьей деревушки на берегу Желтого моря, где ее мать, потеряв мужа, едва перебивалась тем, что плела сети для рыбаков и зарабатывала, когда год был удачный, до четырех долларов. Ой-Ли поступила к Паоле, когда та плавала на трехмачтовой шхуне «Все забудь», а О-Пой, еще служивший юнгой, стал выказывать ту сообразительность, благодаря которой сделался через несколько лет дворецким Большого дома.
– Где ваша госпожа, Ой-Ли?
Ой-Ли испуганно отпрянула, охваченная неодолимой застенчивостью.
Дик подождал.
– Может быть, она с молодыми барышнями? Я не знаю, – пролепетала служанка.
Дик из жалости отвернулся и пошел к двери.
– Где мой мальчик? – кричал он, проходя под воротами как раз в ту минуту, когда, огибая кусты сирени, подъехал лимузин.
– Черт меня побери, если я знаю, – ответил сидевший в машине высокий белокурый человек в светлом летнем костюме; и через мгновение Дик Форрест и Ивэн Грэхем пожимали друг другу руки.
О-Дай и О-Хо внесли ручной багаж, и Дик проводил своего гостя в приготовленное для него помещение в так называемой «Башне».
– Вам придется еще попривыкнуть к нашим порядкам, дружище, – говорил Дик. – Жизнь у нас здесь идет по часам, и прислуга образцовая; но себе мы разрешаем всякие вольности. Если бы вы приехали на две минуты позже, вас встретили бы только наши китайские слуги: я намеревался выехать верхом, а Паола – миссис Форрест – уже куда-то исчезла.
Грэхем был почти одного роста с Форрестом, может быть, выше на какой-нибудь дюйм, но зато уже в плечах и груди и волосы светлее; глаза у обоих были почти одинаковые – серые, с голубоватым белком, и лица их покрывал одинаковый здоровый бронзовый загар. Черты лица у Грэхема казались несколько крупнее, чем у Форреста, разрез глаз чуть удлиненнее, что, однако, скрадывалось более тяжелыми веками. И нос его был как будто прямее и крупнее, чем у Дика, и губы алее и точно слегка припухли.
Волосы Форреста были ровного светло-каштанового оттенка, а волосы Грэхема, без сомнения, отливали бы золотом, если бы они так не выгорели на солнце, что казались песочного цвета. Скулы у обоих слегка выступали, но впадины на щеках у Форреста обозначались резче; носы были с широкими нервными ноздрями, рты крупные, по-женски красивые и чисто очерченные; вместе с тем в них чувствовались затаенная сила воли и суровость, так же как и в крепких, крутых подбородках.
Но чуть более высокий рост и менее широкая грудь и плечи придавали фигуре и движениям Грэхема ту стройность и гибкость, которых не хватало Дику Форресту. Благодаря особенностям своей внешности каждый только выигрывал от присутствия другого. Грэхем был светел и легок, в нем таилось неуловимое обаяние, что-то от сказочного принца. Форрест производил впечатление более сильного и сурового человека, чем Грэхем, более опасного для других, более крепкой хватки.
Взгляд Форреста бегло скользнул по циферблату часов на руке. Этот взгляд как бы на лету отметил время.
– Одиннадцать тридцать, – сказал Дик. – Поедемте сейчас со мной, Грэхем, мы ведь завтракаем не раньше половины первого! Я отправляю партию быков, целых триста голов, и, должен сознаться, очень горжусь ими. Вы непременно должны взглянуть на них. Это ничего, что вы не одеты для верховой езды. О-Хо, принеси-ка пару моих краг; а ты, О-Пой, прикажи оседлать Альтадену. Какое седло вы предпочитаете, Грэхем?
– Все равно, дружище!
– Английское? Австралийское? Мексиканское? Шотландское? – настаивал Дик.
– Тогда шотландское, если это не сложно, – сказал Грэхем.
Они стали со своими лошадьми на краю дороги, пропуская мимо себя все стадо, начинавшее далекое путешествие в Чили, и следили за быками, пока те не скрылись за поворотом дороги.
– Я теперь вижу, насколько замечательно то, что вы делаете! – воскликнул Грахем, и глаза его блеснули. – В молодости я и сам, когда был в Аргентине, увлекался скотоводством. Если бы я начал дело с быками таких кровей, я, может быть, и не прогорел бы.
– Но тогда ведь еще не было ни люцерны, ни артезианских колодцев, – сказал Дик, стараясь его утешить. – Шортхорны там не выжили бы. Засуху выдерживает только мелкий скот. Он обладает достаточной силой, но легок на вес. Пароходов с холодильниками тоже еще не существовало. А это изобретение, конечно, вызвало в скотоводстве целую революцию.
– Кроме того, я был еще очень молод, – добавил Грэхем. – Хотя это, конечно, не всегда имеет значение. Одновременно со мной начал дело некий молодой немец, и притом имея приблизительно одну десятую моего капитала. Он выдержал и годы засухи и все неудачи. Теперь он миллионер, его состояние выражается в семизначных числах.
Они повернули к Большому дому, и Дик снова взглянул на часы.
– Времени еще пропасть, – сказал он. – Я рад, что вы видели моих годовалых бычков. А знаете, почему этот немчик выдержал: у него не было другого выхода. А вас ожидали отцовские деньги, и хотелось пошляться по свету, причем ваш главный минус заключается в том, что у вас были средства, чтобы этот зуд унять…
– Вон там, – Дик кивнул вправо, указывая рукой на что-то, еще скрытое зарослями сирени, – там рыбные пруды, и вы можете наловить сколько угодно форели, морских окуней и даже морских котов. У каждой породы свои садки. Видите, какой я скопидом: люблю, чтобы все работало. Пусть вводят восьмичасовой рабочий день, может быть, это и правильно, но вода у меня работает двадцать четыре часа. Вода начинает свою работу уже в горах. Сначала она орошает горные луга, потом сбегает в долину и, пройдя несколько миль, очищается до кристальной чистоты; водопад же, образующийся при ее падении с гор, дает половину всей энергии, нужной для имения, и полностью обеспечивает нас светом. Затем вода разделяется, течет по каналам в пруды и, вытекая оттуда, орошает площадь в несколько миль, засеянную люцерной. И поверьте, если бы она потом не разливалась по долине реки Сакраменто, я бы опять воспользовался ею для орошения.
– Ах, голубчик, голубчик, – смеясь, сказал Грэхем, – да вы могли бы написать целую поэму о чудесах, которые совершает вода. Я встречал огнепоклонников, но теперь я впервые вижу водопоклонника. И живете вы не на песках, а на водах, – простите мне неудачный каламбур…
Грэхему не пришлось досказать свою мысль до конца. Справа, неподалеку от них, раздался звонкий стук копыт, затем оглушительный всплеск воды, возгласы и взрыв женского смеха. Однако смех быстро оборвался, раздались тревожные крики, сопровождаемые таким фырканьем и барахтаньем, точно тонуло какое-то чудовище. Дик наклонил голову и заставил лошадь проскочить сквозь заросли сирени, Грэхем на своей Альтадене последовал за ним. Они выехали на залитую ярким солнцем лужайку, и Грэхему открылось необыкновенное зрелище.
Середину обсаженной деревьями лужайки занимал большой квадратный бетонированный бассейн. Один его конец, служивший водосливом, был широк и отлог, и на нем, мягко поблескивая, плескалась струя. Боковые стены были отвесны. Другой конец был тоже пологий и слегка рифленый для упора. И тут, охваченный ужасом, то приседая, то выпрямляясь, стоял ковбой в кожаных штанах и растерянно восклицал с мольбой и отчаянием: «Господи! Господи!»
Против него, на дальнем конце бассейна, сидели, свесив ноги, три испуганные нимфы в купальных костюмах.
В самом бассейне, как раз посередине, огромный гнедой жеребец, мокрый и блестящий, взвившись на дыбы, бил над водой копытами, и мокрая сталь подков блестела в солнечных лучах. А на его хребте, соскальзывая и едва держась, белела фигура, которую Грэхем в первую минуту принял за прекрасного юношу. И только когда жеребец, вдруг опустившийся в воду, снова вынырнул благодаря мощным ударам своих копыт, Грэхем понял, что на нем сидит женщина в белом шелковом купальном костюме, облегавшем ее так плотно, что она казалась изваянной из мрамора. Мраморной казалась ее спина, и только тонкие крепкие мышцы, натягивая шелк, извивались и двигались при ее усилиях держать голову над водой. Ее стройные руки зарылись в длинные пряди намокшей лошадиной гривы, белые округлые колени скользили по атласному мокрому крупу, а пальцами белых ног она сжимала мягкие бока животного, тщетно стараясь опереться на его ребра.
В одно мгновение – нет, в полмгновения – Грэхем охватил взглядом представившееся, его глазам зрелище, понял, что сказочное существо – женщина, и удивился миниатюрности и нежности всей ее фигурки, делавшей столь героические усилия. Она напомнила ему статуэтку дрезденского фарфора, легкую и хрупкую, попавшую в силу какой-то нелепой случайности на спину тонущего чудовища; в сравнении с огромным жеребцом она казалась крошечным созданием, маленькой феей из волшебной сказки.