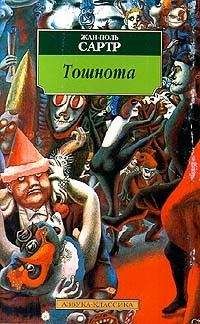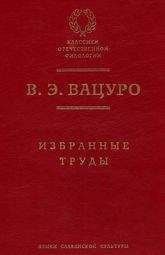Я вынимаю письмо из бумажника. Там не написано «Дорогой Антуан». Нет в конце и обычной формулы вежливости: «Мне необходимо с тобой увидеться». Ничего, что может навести на мысль о ее чувствах. Жаловаться не приходится – я узнаю в этом ее любовь к совершенству. Она всегда стремилась воплощать «совершенные мгновения». Если минута этому не поддавалась, Анни теряла интерес к окружающему, глаза ее мертвели, она лениво слонялась с видом рослой девочки переходного возраста. Или придиралась ко мне:
«Ты сморкаешься торжественно, как буржуа, а когда откашливаешься, самодовольно прикрываешь рот платком».
Надо было отмалчиваться и ждать; вдруг, отзываясь на какой-то неуловимый для меня звук, она вздрагивала, томные черты ее прекрасного лица отвердевали, и она начинала свою кропотливую работу. В ее чародействе была пленительная властность. Она что-то напевала сквозь зубы, потом с улыбкой выпрямлялась, подходила ко мне, встряхивала меня за плечи и в течение нескольких мгновений, казалось, раздавала приказания окружающим ее предметам. Тихими быстрыми словами она объясняла, чего ждет от меня.
«Послушай, тебе ведь не трудно сделать усилие? В прошлый раз ты вел себя так глупо. Ты видишь, каким прекрасным может стать что мгновение? Посмотри на небо, посмотри, какого цвета солнце на этом ковре. А я как раз в зеленом платье и не накрашена, я совсем бледная. Отодвинься, сядь в тени, ты понял, что тебе надо делать. Сейчас поглядим. Ох, как ты глуп! Говори же со мной».
Я чувствовал, что успех затеи зависит от меня: мгновение обладало скрытым смыслом, который надо было вылущить из него и довести до совершенства; нужно было сделать определенные движения, произнести определенные слова – меня сокрушало бремя ответственности, я глядел во все глаза, я ничего не видел, я барахтался среди обрядов, которые Анни придумывала тут же на ходу, и, словно паутинку, разрывал их своими грубыми руками. В эти минуты она меня ненавидела.
Конечно, я увижусь с ней. Я до сих пор уважаю и люблю ее всем сердцем. Я желаю, чтобы другой оказался счастливей и ловчее меня в этой игре в совершенные мгновения.
«Твои чертовы волосы все портят, – говорила она. – Ну что прикажешь делать с рыжим мужчиной?»
Она улыбалась. Вначале стерлось воспоминание об ее глазах, потом об ее удлиненном теле. Дольше всего я старался сохранить воспоминание об ее улыбке, потом, три года назад, стерлось и оно. Недавно, когда я взял письмо из рук хозяйки отеля, оно вдруг вернулось: мне показалось, что я вижу улыбающуюся Анни. Я и сейчас пытаюсь вспомнить ее улыбку, мне нужно почувствовать всю ту нежность, что я питаю к Анни, – эта нежность здесь, рядом, совсем близко, она вот-вот прорежется. Но нет, улыбка не возвращается – кончено. Внутри у меня пустота и сушь.
В ночной кабачок зябко входит какой-то человек.
– Дамы-господа, приветствую вас.
Он садится, не снимая своего позеленевшего от времени пальто. Потирает одну о другую руки, переплетая длинные пальцы.
– Что вам подать?
Он вздрогнул, глядит беспокойным взглядом.
– Что? А-а, дайте мне «Бирр» с водой.
Служанка не трогается с места. По ее лицу, отраженному в зеркале, можно подумать, что она спит. На самом деле глаза ее открыты – но это маленькие щелки. Такой уж у нее характер, она не торопится обслужить клиента, она всегда должна поразмышлять над его заказом. Ей надо представить себе бутылку, которую она сейчас снимет с полки над стойкой, белую этикетку с красными буквами, густой черный сироп, который из нее польется, – она словно бы пьет его сама.
Прячу письмо Анни обратно в бумажник: я взял от него все, что оно могло мне дать, – мне не удается оживить женщину, которая держала его в руках, сложила, запечатала в конверт. Возможно ли вообще думать о ком-нибудь в прошедшем времени? Пока мы любили друг друга, мы не позволяли даже самому ничтожному из наших мгновений, самой пустяковой из наших горестей отделиться от нас и остаться в минувшем. Запахи, звуки, оттенки каждого дня, даже мысли, не высказанные вслух, – мы все удерживали при себе, и все оставалось живым; мы продолжали наслаждаться и мучиться всем этим в настоящем. Никаких воспоминаний: беспощадная, палящая любовь – ни тени, ни уголка, где укрыться, куда отступить. Три года, спрессованные воедино, составляли наше сегодня. Потому-то мы и расстались: у нас не хватило сил выносить дальше такое бремя. А потом, когда Анни сразу, без раздумий, бросила меня, три года рухнули в прошлое. Я даже не страдал, я был опустошен. Потом время потекло дальше, и пустота стала разрастаться. Потом в Сайгоне, когда я решил вернуться во Францию, все, что еще сохранялось от прошлого – чужеземные лица, площади, набережные длинных рек, – все кануло в небытие. И теперь мое прошлое – громадный провал. А мое настоящее – вот эта официантка в черной блузке, замечтавшаяся у прилавка, вот этот человек. Все, что я знаю о своей жизни, мне кажется, я вычитал из книг. Дворцы Бенареса, терраса Прокаженного короля, храмы Явы с их огромными разрушенными лестницами, когда-то на мгновение отразившись в моих глазах, остались там, на прежнем своем месте. Трамвай, проходящий по вечерам мимо отеля «Прентания», не уносит ведь на своих стеклах отражения неоновых вывесок – на мгновение вспыхнув, он уходит прочь с темными стеклами.
А человек неотступно меня разглядывает – это начинает меня раздражать. Такой коротышка и еще важничает. Официантка наконец решается его обслужить. Она лениво тянет свою громадную черную руку, достает бутылку и приносит ее вместе со стаканом.
– Пожалуйста, мсье.
– Мсье Ахилл, – учтиво сообщает он.
Она, не отвечая, наливает ему спиртное. Вдруг он быстро отдергивает палец, который прижимал к носу, и кладет обе ладони на стол. Он откинул голову назад, глаза его блестят.
– Бедная девушка, – холодно произносит он.
Служанка вздрагивает, я тоже; он сказал это непередаваемым тоном, с удивлением, что ли, – словно произнес эти слова не он, а кто-то другой. Нам всем троим неловко.
Первой оправилась от смущения толстуха официантка: она лишена воображения. Она с достоинством мерит взглядом мсье Ахилла – она прекрасно сознает, что может одной рукой схватить его за шиворот и выкинуть вон.
– Почему это я бедная?
Он мнется. В замешательстве смотрит на нее, потом начинает смеяться. По лицу его разбежались бесчисленные морщинки, он легко вертит кистями рук.
– Обиделась. Да я просто так сказал: «бедная девушка», к слову пришлось. Я ничего не имел в виду.
Но официантка поворачивается к нему спиной и уходит за стойку – она всерьез обижена. Он снова смеется:
– Ха-ха-ха! Да у меня просто вырвалось. Ну что поделаешь? Неужели рассердилась? Рассердилась, – констатирует он, словно бы обращаясь ко мне.
Я отворачиваюсь. Он приподнял свой стакан, но пить не собирается – он удивленно и смущенно щурит глаза. Можно подумать, он пытается что-то вспомнить. Служанка села за кассу и занялась рукоделием. Все снова смолкло, но это уже не прежняя тишина. Вот и дождь – он легонько стучит по матовым стеклам; если на улице еще остались дети в карнавальных костюмах, картонные маски размокнут и полиняют.
Служанка зажигает свет – еще только два часа, но небо совсем почернело, в такой темноте шить невозможно. Мягкий свет; люди сидят по домам, они, конечно, тоже зажгли лампы. Они читают или смотрят в окно на небо. Для них… для них все иначе. Они состарились по-другому. Они живут среди завещанного добра, среди подарков, и каждый предмет их обстановки – воспоминание. Каминные часы, медали, портреты, ракушки, пресс-папье, ширмы, шали. Их шкафы битком набиты бутылками, отрезами, старой одеждой, газетами – они сохранили все. Прошлое – это роскошь собственника.
А где бы я стал хранить свое прошлое? Прошлое в карман не положишь, надо иметь дом, где его разместить. У меня есть только мое тело, одинокий человек со своим одиноким телом не может удержать воспоминания, они проходят сквозь него. Я не имею права жаловаться: я хотел одного – быть свободным.
Маленький человек ерзает и вздыхает. Он совсем съежился в своем пальто, но время от времени выпрямляется, обретая человеческий облик. У него тоже нет прошлого. Если хорошенько поискать, можно, конечно, найти у родственников, которые с ним больше не встречаются, фотографию какой-нибудь свадьбы, на которой он присутствует в крахмальном воротничке, рубашке с пластроном и с торчащими молодыми усиками. От меня, наверно, не осталось и этого.
Вот он опять на меня смотрит. Сейчас он со мной заговорит, я весь ощетинился. Никакой симпатии мы друг к другу не чувствуем – просто мы похожи, в этом все дело. Он одинок, как я, но глубже погряз в одиночестве. Вероятно, он ждет твоей Тошноты или чего-нибудь в этом роде. Стало быть, теперь уже есть люди, которые меня узнают: поглядев на меня, они думают: «Этот из наших». Ну так в чем дело? Чего ему надо? Он должен понимать: помочь мы ничем друг другу не можем. Люди семейные сидят по домам посреди своих воспоминаний. А мы, два беспамятных обломка, – здесь. Если он сейчас встанет и обратится ко мне, я взорвусь.