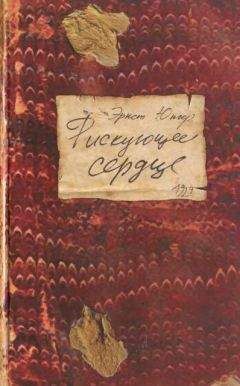Настороженно, не торопясь, позволял он череде расфранченных людей двигать собою. Его острый взор, приученный улавливать существенное, схватывал прохожих, вникал в них, вызывая вопросом ответ, как пистолетный выстрел. Часто женские губы решались улыбнуться как результат молниеносно решенного уравнения. Это прикосновение многих глаз стимулировало его походку, заставляло наслаждаться самой ходьбой, победоносно влекло его в густеющем излучении сладострастных мыслей и желаний. Источник мог забить, казалось, на каждом шагу, каждый камень мостовой сулил могучую игру счастья, каждая женщина была носительницей неизведанного, давно желанного.
Это чувство сгущалось постепенно в опьянение и жаждало проявиться. Он испытывал страстное желание излить избыток этой силы в какой-нибудь сосуд, разбить ее набухающую волну о какую-нибудь женщину. Все, кого он встречал сегодня, не очень-то годились для этого на его взгляд. Путь к ним пролегал через кафе, через винные погребки, через темные аллеи; они требовали ухаживания, постепенности, маленького романа. Романа в пятигрошовом формате, так сказать, но все-таки романа. Они хотели рассказов, признаний; каждая хотела, чтобы ее принимали как личность, а он искал совсем другого. Из естественнейшего в мире эти женщины чеканили мелкую монету буржуазного обихода. Вечер уподобился бы кинокитчу или много раз виденному фильму. В его мозгу копошились словесные клише вроде: „Что вы обо мне подумаете?“ Крестьянских юношей, заброшенных в город, такое самоотречение могло осчастливить космическим чувством, а его мужественность возмущалась против этого. Ему вспоминались ночные патрули после коротких жестоких перестрелок, после яростного штурма, стальные шлемы, ручные гранаты. Не проходило и пяти минут, а противник бывал уже повержен. После того как прошли годы целеустремленного, сосредоточенного переживания, его эротика требовала более мужественного оттиска, возвращаясь к первобытной простоте. Как он привык ценить крепкий, неразбавленный алкоголь, так и в каждом переживании он упивался теперь лишь неистовым прорывом к цели.
Следуя внезапному решению, он свернул в боковой переулок, где любовь предлагала себя более бесцеремонно и навязчиво. Уже внешний облик втиснутых в шелк женщин, сновавших там, рассчитан был на то, чтобы приковывать возбужденную чувственность. Броские краски, шляпы странного фасона, чулки, в которых плоть выглядела более обнаженной, искусственные ароматы, исходящие от шелестящего белья. Все эти девушки казались ему странными цветами, чьи обманчивые чашечки стараются привлечь рои опыляющих насекомых, расточая краски и запахи. Их вызывающая нарядность, плакатная привлекательность нравились ему. Здесь инстинктивное выступало явственно и открыто. Он чувствовал себя азиатским деспотом, которого обольщают варварским великолепием. Все это выставлялось лишь для него, лишь в честь его мужественности.
Одна из проходящих мимо приковала его взор. Голова и лицо были стандартны, но их носитель, тело, было восхитительно. Формы, эластично сочетаясь, придавали походке напряжение сдержанной силы, свойственной крупным женщинам. Он заговорил… и они пошли вместе.
Он проснулся среди ночи. Быстро опамятовавшись, зажег свет и всмотрелся в ее лицо. Закрытые глаза усиливали впечатление маски, которым ее заклеймили тысячи ночей. Вожделение большого города врезалось в ее черты усмешкой, полупресыщенной, полуненасытной, которая подобно застывшей гробовой гримасе захлестывала тихого созерцателя волнами отвращения.
Вдруг из некоего смертного ощущения контраста перед ним возникло видение полузабытого образа — девушка, которую он любил перед войной с непостижимой для него теперь силой, хотя он в мальчишеской застенчивости не обменялся с ней ни одним словом. Сад летом, светлое, свободное платье, локон, то и дело падающий ей на лицо. Как безмятежно все это было! А потом война, настроение morituri,[21] нежная картина стерта жестким нажимом, рядом с черными тенями кричащий свет. Повсюду жуткое влияние войны, готовность впасть в былое варварство, раскинутая сеть средневековых страстей. Лишь иногда, в часы пресыщения, тоска по лирической нежности всплывает, как фата-моргана, из руин разрушенной культуры.
Он тихо встал, оделся, взял ключ с ночного столика и покинул дом».
Когда Штурм закрыл тетрадь и осмотрелся, он увидел, что сапер за это время почти заснул. Деринг, слушавший, казалось, внимательно, поблагодарив, предложил пройтись по траншее, проверить посты, а потом продолжить чтение. Они привели себя в порядок и вышли. Ночь была прохладной и тихой, утро давало себя знать чистотой тяжелеющего от росы воздуха, освежая перенапряженные нервы. Из тени мощного бруствера вышел человек и, приложив руку к стальному шлему, доложил: «Участок третьего взвода. Всё в порядке». То был Хугерсхоф.
Три офицера, обменявшись рукопожатием, шепотом переговаривались. Атака была маловероятна, ночь такая спокойная. Но было все-таки надежнее сохранить состояние высшей боевой готовности до рассвета. Пока они разговаривали, сменить Хугерсхофа пришел фельдфебель.
— Пойдем с нами, — пригласил Хугерсхофа Деринг, — у нас есть еще грог, и Штурм будет читать нам, пока не рассветет. Тогда мы со спокойной совестью сможем лечь и спать до полудня.
Они пошли назад и застали сапера в прежнем положении. Они осторожно извлекли его из кресла и уложили на койку так, что он даже не проснулся. Штурм открыл тетрадь и продолжил чтение.
«У Фалька не было друзей. Для знакомых, заносимых в его пространство образованием, посещением кафе, литературным обиходом, он оставался разве что именем и поводом для мимолетного приветствия. Для квартирной хозяйки он был тот, у кого каждое утро приходилось убирать книги, белье, окурки и частенько ставить ему под дверь двойной завтрак. В социальном отношении он был нуль, загубленная надежда родителей, вызывающих сожаление.
И в своих собственных глазах он мало что собой представлял и считал это причиной своего неуспеха. Он знал, что взор должен быть молнией, общение — натиском, речь — покорением, иначе впечатления ни на кого не произведешь. Какими бы достоинствами ты ни обладал, их следовало проявить, чтобы ввергнуть их в сознание окружающих. Теми, кто умел это делать, он восхищался, как цирковыми магами, из пустоты услужливо мечущими в помещение цветы и мотыльков. Иногда он чувствовал глубокую жгучую обиду, когда другие небрежно проходили мимо него. Тогда его душа казалась ему безлюдной страной, богатой золотом и драгоценностями, но окруженной глухими первобытными дебрями. А пытаясь продраться через чащу, он ронял свои сокровища по дороге и выступал в конце концов лишь как мишень для насмешек или как тусклое ничто.
Переживая подобный опыт ежедневно на уличных перекрестках, о чем другие даже не подозревали, он потом на целые дни уклонялся от малейшего соприкосновения с людьми. Выкуривая сигарету за сигаретой, лежал он в своей квартире на диване, читал или ни о чем не думая смотрел в потолок. Он любил Гоголя, Достоевского, Бальзака, поэтов, подстерегавших человеческую душу, как охотник таинственного зверя, и проникавших при свете рудничных ламп в отдаленнейшие шахты, чтобы между хрусталем и зубчатыми древними камнями упиться исследовательским пылом. В чтении его занимало не просто соучастие или удовольствие от игры чужой мысли; то была для него форма жизни, позволявшая вращаться в духовном и без неприятных трений втягиваться во всевозможные страдания и наслаждения. Эти великие втискивали для него запутанные уравнения в сжатые, осмысленные формулы, переплавляли в огне своей силы подлинную жизнь, с ее противоречиями, длиннотами и излишествами, в ясную и вечную форму. Люди выступали, обточенные мозгом, прокаленные сердцем, чтобы, прозрачные как стекло, в средоточии мощных прожекторов явить самое сокровенное. Извне можно было видеть, как струится по жилам красная кровь, как подергиваются нервные сплетения, которыми играет переменчивая воля, как тысячи дуговых ламп вспыхивают в силовых вихрях мозга. Избыток сил или запруженный натиск, в бешенстве готовый сокрушить границы и загоны, обнаруживался великолепным воспламенением или устрашающим угаром. Ты боролся вместе с героями, предавал вместе с предателями, убивал вместе с убийцами и должен был вовлечься в их круг, постигая внутреннюю неизбежность борьбы, предательства и убийства. А надо всем этим, как солнце, высился поэт, художник, и отбрасывал свои лучи, заставляя свершение двигаться нужным путем вокруг своей оси. Он был одарен свыше, сознательно замкнутый великой цепью тока, зеница Божья. Одного ненависть повергала в прах, другого — в любовь; некто убивал старуху, сам не зная зачем; в поэте все они обретали искупление и понимание. В нем заключалось великое сознание человечества, электрический разряд над пустыней сердца. В нем выкристаллизовывалось его время, личное наделялось вечной ценностью. Он был ярким разбивающимся гребнем темной волны, скользящей в море бесконечности.