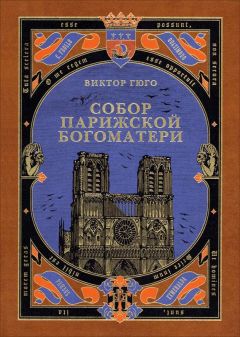Он повернул обратно и, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфяка. Но все его старания были напрасны. Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чувствуя себя беспомощней, чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул:
— Будь прокляты все перекрестки! Это дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил!
Это восклицание несколько утешило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улички, вернул ему твердость духа.
— Слава богу! — воскликнул он. — Это пылает мой тюфяк. — Уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил: — «Salve, maris stella».[22]
Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой деве или к соломенному тюфяку — это так и осталось невыясненным.
Едва успел он сделать несколько шагов по длинной, отлогой, немощеной и чем дальше, тем все более грязной и крутой уличке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна: то тут, то там вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек.
Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Гренгуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец, у которого только и осталось что две ноги. Когда Гренгуар проходил мимо паукообразного существа с человечьим лицом, оно жалобно затянуло:
— La buona mancia, signor! La buona mancia![23]
— Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь! — сказал Гренгуар и пошел дальше.
Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий и настолько изувеченный, что сложная система костылей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Гренгуар, имевший склонность к благородным классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику Вулкана.
Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шляпу, тут же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Гренгуара и оглушительно крикнул:
— Senor caballero, para comprar un pedazo de pan![24]
«И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. Он счастливее меня, если понимает его», — подумал Гренгуар.
Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал:
— Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?
Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто или, вернее, некто был бородатый, низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом; его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом:
— Facitote caritatem![25]
— Слава богу! — заметил Гренгуар. — Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просят милостыню. Друг мой, — тут он повернулся к слепцу, — на прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь: vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam.[26]
Сказав это, Гренгуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой; тогда и паралитик и безногий поспешили за Гренгуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню.
— Caritatem!..[27] — начинал слепой.
— La buona mancia!..[28] — подхватывал безногий.
— Un pedazo de pan![29] — заканчивал музыкальную фразу паралитик.
Гренгуар заткнул уши.
— Да это столпотворение вавилонское! — воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец. Побежал паралитик. Побежал и безногий.
И по мере того как Гренгуар углублялся в переулок, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных: одни выползали из домов, другие из ближайших переулков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь, по брюхо в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету.
Гренгуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет, чем все это, может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике калек, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов.
Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь легион, с тремя нищими во главе, сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном.
Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в ночном тумане были рассеяны мерцающие огоньки. Гренгуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений.
— Onde vas, hombre?[30] — окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа.
Неожиданно встав на ноги, безногий нахлобучил на Гренгуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами.
— Где я? — спросил поэт, ужаснувшись.
— Во Дворе чудес, — ответил нагнавший его четвертый призрак.
— Клянусь душой, это правда! — воскликнул Гренгуар. — Ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают, но где же Спаситель?
В ответ послышался зловещий хохот.
Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном Дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек; в том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители Шатле, осмелившиеся туда проникнуть; в квартале воров — этой омерзительной бородавке на лице Парижа; в клоаке, откуда каждое утро выбивался и куда каждую ночь вливался выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества; в том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя; в том своеобразном госпитале, где цыган, расстрига-монах, развращенный школяр, негодяи всех национальностей — испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий — иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа.
Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. На ней горели костры, а вокруг костров кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле густыми гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье, недуги — все в этой толпе казалось общим, все делалось дружно; все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал общий для всех отпечаток.
Несмотря на свою растерянность, Гренгуар при колеблющемся и слабом отсвете костров разглядел вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая, смотрели на шабаш.
То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный.