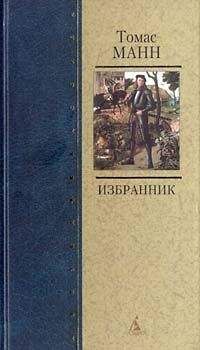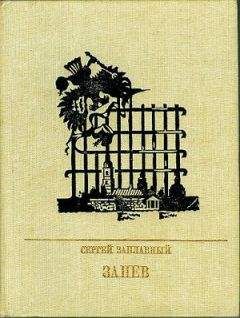– Разве я не посулил тебе ремня, – пригрозил ей муж, – если будешь спрашивать?
– Ты запретил мне спрашивать про ребенка, а не про деньги.
– Я вообще запретил тебе спрашивать, – сказал муж.
– Так-таки ни о чем нельзя и спросить? Ты наживаешь добро, наколдовал нам коров и свиней, а мне и спросить нельзя – с чьею помощью?
– Жена, – сказал муж, – еще одно слово, и я возьмусь за ремень, и ты у меня вдосталь накричишься.
Тут она замолчала. Но однажды ночью, когда он по-супружески пожелал ее тощего тела, она не подпустила его к себе, пока он ей не поведал, как они с братом замерзшими руками выловили ребенка из волн и как сие обнаружил аббат, который и дал ему, Виглафу, две марки золотом, чтобы тот вырастил подкидыша для монастыря. Но чье это дитя и кем оно брошено в море, никто не знает. Затем, исполнив свою нужду, он сказал:
– Фу ты, дело не стоило того, чтобы выдать тайну! Если ты ее не сохранишь и начнешь twaddein[89], что Григорс – найденыш, я изобью тебя до полусмерти.
И она действительно хранила тайну и не осмеливалась twaddein долгие годы, поелику боялась, что исчезнут колбасы и пахтанье, коли она не будет молчать. О приемыше она заботилась не хуже, чем о Флане, ее собственном младшем сыне, и когда аббат заходил к ним, чтобы посмотреть, все ли в порядке, она показывала ему двух благополучных молочных братьев. А он делал вид, будто ему одинаково важно благополучие обоих, и хвалил ее грубовато-нескладного Флана не меньше, чем чужое дитя, которое явно было сделано из более тонкого теста и которому тайно принадлежало все его внимание – не только потому, что мальчик отличался от детей рыбака благородством и красотой, но прежде всего потому, что он знал, в сколь великих грехах тот рожден, ибо подобные обстоятельства глубоко волнуют христианина и вызывают в его душе своего рода благоговение.
Глядя, как идут впрок рыбаку деньги найденыша, аббат усмехался. Но он помнил, что сам он, по смыслу грамоты на писчей дощечке, обязан умножить приданое ребенка и пустить его золото в рост. Много раз, начиная с первого дня, читал он сию дощечку, – в общем, наверно, ни одна дощечка на свете не читалась так часто, как эта. Аббат Грегориус запирался у себя в келье, когда ее изучал, и на первых порах у него ушло немало времени, чтобы из робких иносказаний о родне дитяти (говорилось, что оно – брат и племянник собственных родителей) вывести греховную и потрясающую христианское сердце правду. Брат и сестра, какая мука! Господь сделал наш грех мукой своею. Грех и крест – они совокупились в нем воедино, ибо господь есть по преимуществу бог согрешивших. Потому-то пристанищем неприкаянного чада он и назначил эту свою твердыню – «Муку господню». Аббат глубоко сие восчувствовал, и ему была дорога его миссия. Первый наказ дощечки он уже выполнил и окрестил некрещеное дитя. Второй – научить ребенка грамоте, чтобы тот некогда прочитал свою дощечку, – собирался исполнить, как только мальчик, под присмотром жены рыбака, достаточно подрастет для ученья. Но нельзя было пренебречь и третьим – приумножить достояние подкидыша, семнадцать золотых марок, оставшихся от найденных в хлебах двадцати, после того как аббат отдал три из них рыбакам. Это весьма тревожило благочестивого мужа, ибо разве такая сумма уже сама по себе не есть пища адского пламени, даже если не надобно наживать лихвы и взимать плату за время господне? А ему все-таки очень хотелось учинить сие для своего крестничка, как наказано было в дощечке.
Посему он призвал к себе в келью монастырского келаря, брата Хрисогонуса, запер двери и молвил:
– Брате, у меня, твоего настоятеля, имеется некий в меру большой capitale[90], сиротские деньги в золотых марках, числом семнадцать, доверительно мне врученные – не для того чтобы я просто положил их в кубышку мертвым богатством, но чтобы извлек из них прибыль. Писано же: благочестиву рабу надлежит не зарывати в землю данного ему от бога таланта, но растити оный. Однако, по сугубом размышлении, ростовщичество опять же – не христианское дело, но грех. При таком разладе что бы ты мне посоветовал?
– Это проще простого, – отвечал Хрисогонус. – Вы отдадите деньги еврею Тимону Дамасскому, бородачу в островерхой шляпе, мужу верному и надежному, весьма искусному в ростовщичестве. В своей меняльной лавке он только деньгами и торгует, и вы представить себе не можете, какой он дока по этой части. Он пошлет ваши деньги хоть в Лондиниум, в Эссексе, и пустит их там в оборот, чтобы они принесли проценты на проценты, и если вы оставите ему ваш capitale на достаточно долгий срок, то он сделает вам из семнадцати марок золотом полтораста.
– Так ли это, – спросил аббат, – неужто он и впрямь умеет столь искусно доить время? А можно ли на него положиться?
– Нет на свете ростовщика, – отвечал монах, – честнее, чем санкт-дунстанский еврей.
– Хорошо, Хрисогон, в таком случае прошу тебя: возьми эти сиротские деньги и доставь их в лавку желтошляпного Тимона! Ступай тотчас же, дабы capitale поскорее начал расти, и принеси мне расписку!
Так наказал аббат монаху, но потом, когда тот уже подошел к двери, еще раз его окликнул:
– Хрисогоне, – промолвил он, – я, настоятель твой, обладаю обширными познаниями, жить с которыми, credemi[91], подчас не так-то легко. Я припоминаю не один собор и не один синод, запретивший ростовщичество как священникам, так и мирянам или, если не этим последним, то уж во всяком случае нам, священникам. Посему, отдавши деньги еврею, почти за лучшее отправиться в бичевальню и принять умеренное наказание очищения ради.
– О нет, – возразил монах. – Мне уже за шестьдесят, и я с великим трудом выдерживаю удары бича, даже если наношу их себе осторожно. Вы же на десять лет моложе меня и деньги-то ваши. Посему, коли вы печетесь об искуплении, вам придется самим побывать в бичевальне и воздать себе причитающееся.
– Ступай с богом! – сказал аббат и стал снова читать дощечку.
Мальчик Григорс знать не знал обо всех этих делах и заботах, да и о себе и о своих обстоятельствах он тоже знал лишь то немногое, что видел собственными глазами. Он рос среди детей рыбака, которые считали его своим братом, как и он их – своими братьями и сестрами, да и у жителей острова, если это их вообще занимало, он слыл младшим сыном Виглафа и Магауты, ибо в выдумке аббата, будто дитя привезено с Санкт-Альдгельма, от хворой дочери Этельвульфа, не было вовсе нужды или, если какая нужда и была, то сведенья эти быстро изгладились из памяти островитян. Он носил такую же грубую одежду, как его братья, и в три года начал говорить так же, как они и их родители – «What shall быти овамо» и «Мне оно ни к чему»; разве что от аббата, его крестного отца, который часто их навещал, он научился вставлять в свою речь словечко «credemi», так что, бывало, скажет: «Флан, credemi, have not stolen[92] у тебя твоих мячиков», отчего братья, а в конце концов и родители, на первых порах в шутку, а затем и не в шутку, привыкли называть его «Кредеми». И он откликался на это имя.
Кредеми-Григорс был хорош собою. Казалось, что губы его не созданы для грубой мужицкой речи, слетавшей с них, его мягкие каштановые волосы не походили на свалявшиеся соломенные вихры сорванцов из рыбачьей хижины, а его улыбка – на их ужимки, и ничего общего с их ревом не имели его тихие слезы, когда он плакал от боли. В пять лет он сильно вытянулся и приобрел стройность, все больше и больше отличаясь от местных детей и сложением, и вылепкой рук и ног, осанкою, и походкой. Миловидный, с серьезным, приятным лицом и строго очерченным ртом, он уже тогда часто склонял к плечу свою продолговатую головку и, держась рукой за другое плечо, скосив и потупив глаза, мечтательно куда-то глядел из-под темных ресниц.
В шесть лет он перекочевал в монастырь; аббат нашел, что время приспело; ибо этот добрый человек спешил научить мальчика грамоте. Он отнюдь еще не собирался ознакомить ребенка с пресловутой дощечкой, но ему не терпелось увериться, что уже скоро тот будет способен ее прочитать. Расставанье с родными, по-видимому, не явилось особым событием ни для них, ни для Григорса. Ведь путь ему предстоял недалекий: от отцовской хижины к монахам рукой подать. И все же разлука была глубже, перемена в его жизни значительнее, чем думалось обеим сторонам при этом безгорестном прощании, и хотя он мог общаться с семьею сколько угодно, пропасть между ними от месяца к месяцу становилась все шире и шире, так что родные по большей части молчали, когда он захаживал к ним.
Он был теперь монастырским школяром, заменил свою пестревшую заплатами рубаху подобием стихаря, ровно подстригая волосы на затылке, отпустил их в длину над ушами и содержал в опрятности руки и ноги. Читать и писать он с великою быстротой научился у патера Петра-и-Павла, незлобивого брата, который, как ученый и поэт, именовался Гальфрид Монмутский и был попечителем и наставником пяти-шести воспитанников «Agonia Dei», ночевавших вместе с Григорсом в сводчатой спальне. Они превосходили его годами и уже знали грамоту, когда он к ним присоединился; но вскоре он сравнялся с ними в умении владеть грифелем и пером, а затем, к радости Петра-и-Павла, решительно опередил их в малых сциенциях, художествах словесности, счета и пения, ибо мальчики также певали латинские величанья, которые сочинял и сопровождал игрою на лютне упомянутый брат. Григорс тоже обучился игре на лютне, а равно и латыни.