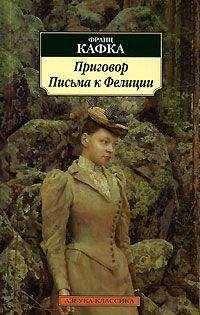Ваше предприятие я в общем и целом представлял себе правильно, но вот чего уж я совсем не мог предположить, так это того, что от вас ежедневно исходит адский шум аж от полутора тысяч граммофонов. Сколько нервов истрепано при Твоем соучастии, об этом, милая дама, Ты подумала? Было время, когда меня прямо-таки преследовала навязчивая идея, что где-нибудь поблизости от нашего дома появится граммофон и это будет моя погибель. По счастью, ничего подобного не случилось, Ваш пражский филиал (адреса которого я все еще не знаю, как и его руководителя, которому я никогда не забуду, что он однажды был с Тобой в Град-чанах), похоже, не слишком-то утруждается, надо бы Тебе как-нибудь нагрянуть к ним с однодневной – а лучше недельной, а лучше на всю жизнь – проверкой. Но 1500 граммофонов! И каждый, прежде чем его упакуют и отправят, по меньшей мере один раз должен что-то прогорланить! Бедная Фелиция! Хватает ли там у вас прочных стен, чтобы уберечь Тебя от полутора тысяч этих первых родовых воплей? Вот из-за этого и Твой аспирин. И уж кому-кому, а мне вовсе не надо слушать граммофон, одно их существование на свете я ощущаю как угрозу. Только в Париже они мне нравились, там на каком-то из бульваров фирма Пате открыла салон с патефонами, где за мелкую монетку Ты можешь прослушать поистине бесконечную программу на свой вкус (по выбору из толстенного каталога). Вот бы и вам в Берлине так же сделать, если вас еще не опередили. А пластинки вы продаете? Я закажу тысячу штук с Твоим голосом, который будет говорить мне только одно: что разрешает мне столько поцелуев, сколько мне требуется, чтобы забыть всю свою тоску-печаль.
Твой Франц.
Любимая, прошу Тебя, попробуй все-таки завести привычку, когда у Тебя нет времени написать мне подробно, посылать мне коротенькую, из трех слов, открытку – что у Тебя все хорошо.
Любимая, к чему заключать поцелуями только письма, когда письма сами по себе настолько не важны, а перед Твоим чаемым и все же невообразимым присутствием бумага и перо вообще мигом обратились бы в ничто, чем они уже и сейчас, в сущности, являются. В самом деле, Фелиция, когда я вот так, в полном одиночестве, сижу здесь, в ночи, и мне, как сегодня, да и вчера, не особенно хорошо пишется – что-то кое-как движется, вяло и равнодушно перекатываясь, а необходимая ясность вспыхивает лишь на секунды – и когда я, пребывая в этом, отнюдь не лучшем своем состоянии, пытаюсь вообразить себе наше свидание, я иногда начинаю бояться, что просто не вынесу встречи с Тобой, на улице ли, у Тебя на работе или дома, не вынесу, если кто-то из посторонних, или даже Ты сама, при этом будут на меня смотреть; начинаю бояться, что вынести эту нашу встречу мне будет возможно, только если я настолько погрязну в душевном разброде и тумане, что, по сути, не буду достоин перед Тобой предстать. Но Ты-то, по счастью, не статуя, Ты живая и живешь весьма энергично, быть может, едва только Ты протянешь мне руку, все снова будет хорошо и мое лицо, возможно, уже вскоре примет человеческое выражение.
Ты спрашиваешь, как я собираюсь провести рождественские каникулы. У меня, к сожалению, нет под рукой календаря. Отпуск у меня, конечно, только в два праздничных дня, но поскольку в этом году у меня накопилось еще три свободных дня за переработку (сокровище, одна возможность использования которого уже несколько месяцев придает мне сил), а праздники, как я слышал, на сей раз выпадают так, что если присовокупить к ним два из этих трех заветных дней да еще и воскресенье прихватить в придачу, получается то ли пять, то ли даже шесть дней каникул, так что мой отпуск, если прибавить к нему те два дня, даже на что-то будет похож. Только вот я был полон решимости посвятить это время своему роману, может быть, даже завершению романа. И теперь, когда роман вот уже больше недели лежит без движения, а новая история хоть и движется к концу, но вот уже второй день наводит меня на подозрения, что я второпях в чем-то с ней просчитался, – я, по сути, должен бы как можно тверже этого намерения держаться. Один из рождественских дней я и так уже потеряю из-за свадьбы сестры, это будет 22-го. Я, кстати, и не припомню, уезжал ли когда-нибудь на Рождество; сперва долго катить куда-то, чтобы потом, уже через день, столько же катить обратно, – бесполезность подобных предприятий всегда меня удручала. А каковы, любимая, Твои виды на рождественские каникулы? Останешься в Берлине, несмотря на Твою настоятельную потребность как следует отдохнуть? Ты ведь хотела в горы, только куда? Куда-нибудь, где Ты будешь для меня достижима? Видишь, я был полон решимости до завершения романа вообще не показываться на люди, а теперь спрашиваю себя, но это, правда, только сегодня вечером, смогу ли я по окончании с чуть более спокойной – или, по крайней мере, чуть менее нечистой – совестью взглянуть Тебе в глаза. И не важнее ли, чем пожертвовать неистовству писания вольницу этих шести дней и ночей кряду, наоборот, насытить наконец мои несчастные глаза лицезрением Тебя? Ответь Ты, я со своей стороны вывожу крупное «Да».
Франц.
Любимая Фелиция, клятая почта нас дурачит, вчера я получил Твое вторничное письмо и оплакивал пропажу понедельничного, так оно приходит сегодня, рано утром в четверг. Где-то в недрах этой выверенной, как часы, почтовой организации сидит, похоже, некий бес-чиновник, задумавший играть нашими письмами и посылать их в путь, когда ему вздумается, – так если бы он хоть все их посылал! Кроме того, я получил еще Твое ночное вторничное письмо, то бишь, по сути, дьявольский (но сколь же безмерно благотворный!) раскат хохота в ответ на мою просьбу не писать по ночам. Не делай этого больше, Фелиция, хоть меня это и осчастливливает, не делай, слышишь, не делай, по крайней мере до тех пор, пока нервы Твои не успокоились. Как, кстати, обстоит с Твоим плачем? Как и когда он на Тебя накатывает? Совсем без причины? Ты сидишь за столом и вдруг, ни с того ни с сего, начинаешь плакать? Но, любимая, тогда Тебе надо в постель, а вовсе не на репетиции. Плач меня особенно пугает. Сам я плакать не умею. Поэтому плач других людей представляется мне непостижимым и неведомым явлением природы. За много-много лет я только месяца два-три назад однажды вдруг расплакался, но, правда, рыдания буквально сотрясали меня в моем кресле, два приступа с коротким перерывом, я даже испугался, что своими сдавленными всхлипами разбужу родителей за стенкой, дело было ночью, а причиной послужило одно место в моем романе. Но Твой плач, любимая, вызывает беспокойство, Ты вообще так легко плачешь? Или это по моей вине? Ну конечно, по моей. Скажи, хоть один человек, обязанный Тебе исключительно и только хорошим, мучил ли Тебя вот так же, как я, совсем без причины – то есть когда Ты никакого повода не давала? Не отвечай, не надо, я и так знаю, но я ведь без умысла, Ты же тоже это знаешь или чувствуешь. Но Твой плач меня преследует. Он не может происходить лишь от общего беспокойства, Ты не настолько неженка, у него должна быть особая, заслуживающая скрупулезного описания причина. Скажи мне ее, прошу Тебя, Ты, наверно, еще совсем не знаешь, какую власть имеет надо мной одно только Твое слово, так воспользуйся же ей до последнего, если только Твое беспокойство и этот плач имеют ко мне отношение. Отвечая на это письмо, расскажи обо всем с предельной отчетливостью. Может, всему виной наши и вправду слишком частые письма.
Пишу в большой спешке, мне еще много нужно было Тебе сказать, но у меня отнимают всю вторую половину дня сегодня и, возможно, еще несколько в ближайшее время. Можно поцеловать Твои прекрасные мокрые глаза?
Франц.
Любимая, измочаленный, как дровосек, я все-таки отваживаюсь написать Тебе несколько строк, потому что должен. Вторую половину дня пришлось пожертвовать конторе, я не спал, а значит, и писать не могу, но как раз тогда-то, с обычным для него коварством, и подкатывает неодолимое желание писать. Побоку его! Придут ли лучшие времена? Фелиция, открой глаза и позволь мне заглянуть в них: если я увижу в них себя нынешнего, почему бы не увидеть и своего грядущего?
Я, между прочим, сегодня тоже со многими разными людьми говорил, в особенности с одним берлинским художником, и при этом заметил, что, незаметно для себя (для себя, но не для Тебя, любимая), в своем домашнем затворничестве стал, должно быть, совершенно несносным человеком. Когда оказываешься среди людей, то первое, правда скоро преходящее, их воздействие на тебя благотворно: кажется, что сбрасываешь с себя большую часть чувства ответственности, которым в ходе беспрерывного и раздраженного общения с самим собой ты поневоле переполнен до самых кончиков пальцев. Начинаешь надеяться, что тяготы, на тебя взваленные, быть может, у всех людей общие а значит, и несут их все спины сообща, пусть и втайне. Красивая мысль, но в корне неверная! Отовсюду видишь участие, со всех сторон к тебе спешат доброхоты, желающие помочь, и даже упрямца и рохлю с небывалой, специально для такого случая извлекаемой на свет оживленностью все его окружение пытается подтолкнуть к его счастью. Вот и меня если кто из людей радует, то радость эта просто не ведает границ. Я испытываю радость от одного прикосновения к ним и не могу нарадоваться досыта; сколь бы неприлично это ни выглядело, я хватаю их под руку, потом снова выдергиваю руку, чтобы тут же сунуть ее обратно, когда мне вздумается; я то и дело побуждаю их говорить, но при этом заставляю их рассказывать не о том, что им интересно, а о том, что сам хочу от них услышать. Вот этот художник, к примеру (его автопортрет прилагается), имел настоятельное желание разглагольствовать о своих теориях искусства, внутренне, быть может, ослепительно истинных, но внешне крайне смутных и недолговечных, как зыбкое мерцание свечи.