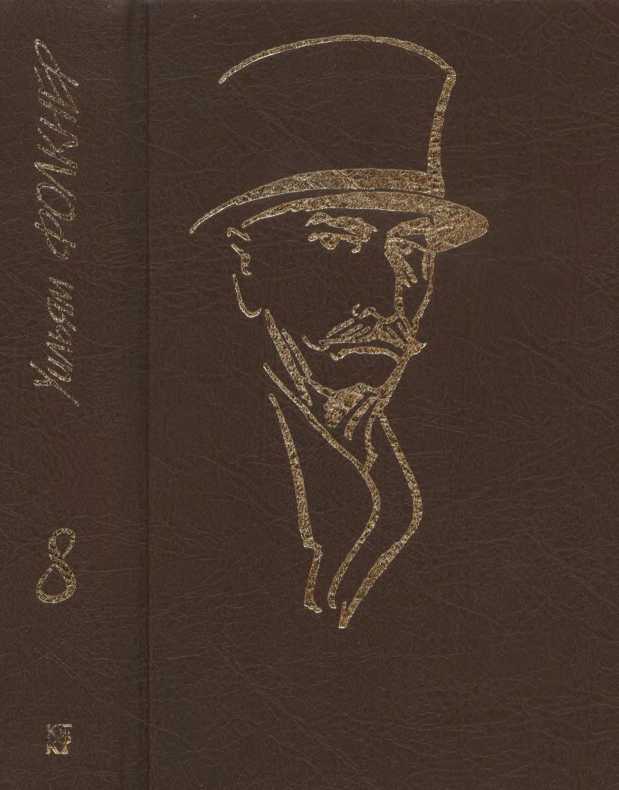при помощи блокнотика переводил Линде то, что говорилось. Вернее, пересказывал вслух Чарльзу и его новой тетушке то, что он ей писал. Потому что Линда и теперь говорила мало, — сидит молча, ест, как мужчина, седая прядь в волосах, словно поникшее перо; Чарльз вовсе не хотел сказать, что она ела грубо, нет, просто с удовольствием, со вкусом, и вид у нее был… да, честное слово, иначе не скажешь — счастливый. Счастливый, довольный, как бывает, когда чего-нибудь добьешься, что-нибудь сделаешь, сотворишь, создашь: пройдешь через какие-то, может быть, даже серьезные, трудности и жертвы, вмешаешься, даже, может быть, наперекор себе, в чьи-то дела, и вдруг, черт побери, все выходит, все сбывается точно так, как было задумано, а ты, может быть, и не смел, не решался надеяться, что все так хорошо выйдет. Хотелось чего-то для себя, да не вышло, и тут начинаешь думать: может быть, этого вообще и на свете нет, может, это невозможно? — и вдруг сам создашь это своими руками, только не для себя — для себя тебе уже больше ничего не нужно, но, по крайней мере, теперь доказано, что так бывает, так может быть.
Потом в гостиной дамам подавали кофе и коньяк, а Чарльзу — портвейн и сигару, — его дядя по-прежнему курил свои простые трубки, никель за штуку. А у нее вид был по-прежнему счастливый, довольный, и еще — Чарльз это сразу почувствовал, понял — вид собственнический. Как будто Линда сама всех их придумала: и дядю Гэвина, и тетушку Мелисандру, и Роуз-Хилл, старинный, когда-то небольшой и непритязательный дом, — старый мистер Бэкус, с его вечным Горацием или Катуллом и разбавленным виски, теперь узнал бы этот свой дом только по местоположению, настолько его преобразили деньги новоорлеанского гангстера, — то же самое пытался делать и Сноупс с домом де Спейна на свои йокнапатофские гангстерские деньги, но у него ничего не вышло, а тут деньги тратились не только широко и щедро, но и с таким тонким вкусом, что ты его и не замечал, только чувствовал, вдыхал, как вдыхаешь воздух или теплоту; и все, что окружало, отгораживало этот дом, — бесконечно длинные изгороди, опоясывающие акры возделанной, ухоженной земли, залитые электричеством теплые конюшни, амбары и жилые помещения для конюхов и флигель управляющего, — весь ансамбль в едином гармоничном аккорде на фоне сгустившейся темноты, а потом Линда выдумала и его, Чарльза, чтобы он хотя бы присутствовал тут, хотя бы смотрел на дело ее рук, одобрял он или не одобрял то, что она сделала.
Наконец пора было уходить, говорить «спасибо» и «спокойной ночи» и возвращаться в город на машине в апрельской или майской темноте, и провожать Линду домой, во дворец, созданный деревенской фантазией ее отца, и остановить машину у подъезда, где она каждый раз говорила своим крякающим голосом (а он, Чарльз, каждый раз при этом думал: «Может, в темноте, в шепоте, когда наконец спадет платье, ее голос звучал бы не так резко», — думал: «Конечно, если бы с ней был ты»).
— Зайдем, выпьем? — А в машине так темно, что ей не прочесть слов на блокноте, если бы даже она подала его тебе. Поэтому Чарльз каждый раз делал одно и то же: смеялся, нарочно громко, и тряс головой — иногда ему в помощь светила луна, — а Линда уже открывала дверцу со своей стороны, так что Чарльзу приходилось быстро выскакивать из машины, чтобы вовремя подбежать и помочь ей. Но, как он ни спешил, она успевала выйти сама и уже шла по аллее к портику: как видно, она слишком молодой уехала с Юга и в ней не успела выработаться привычка южанки к неизменной и верной галантности кавалера, а может быть, из-за работы на верфи ее тело отвыкло от всех прежних привычек, от привычного ожидания услуг. Словом, Чарльзу приходилось догонять, нет, даже перегонять ее на полдороге к дому, и тут она задерживалась, почти что останавливалась и смотрела на него с удивлением — нет, не растерянно, а просто, как говорят в Голливуде, — крупным планом: все-таки она еще не настолько была оторвана от наследственных традиций Юга, чтоб не вспомнить — он, Чарльз, не осмеливался вести себя так, чтобы потом какой-нибудь случайный прохожий доложил его дяде, что племянник позволил даме, которую он привез домой, идти до входной двери без провожатого целых сорок футов.
Так что они вместе подходили к портику, огромному, со смутно вздымавшимися неуклюжими колоннами, возникшему из фантазии ее отца, из его кошмаров, чудовищных надежд, неукрощенных страхов — как знать из чего, откуда, — к холодному мавзолею, где старый Сноупс замуровал хоть часть своих денег, без тепла, без красоты, и Линда опять останавливалась и говорила: «Зайдем, выпьем», — словно она не произносила только что эти слова в машине, и Чарльз опять смеялся и тряс головой, как будто он только сейчас сообразил, что можно ей этим ответить. И ее рука — по-мужски сильная и твердая, потому что, в конце концов, это была рука рабочего или, во всяком случае, бывшего рабочего. Потом он открывал перед ней двери, и она останавливалась на миг в пролете в смутном свете длинного холла, и дверь закрывалась вновь.
Да, все это можно было бы назвать по-разному, но «удивление», конечно, не то слово, и он подумал про своего дядю — святая простота, — если только тот действительно хоть раз снял с нее платье. И тут он подумал: могло же случиться, что его дядя действительно был с ней однажды и не мог выдержать, вынести и убежал, удрал на двенадцать или двадцать лет назад, к своей старой любви, к Мелисандре Бэкус (вернее, урожденной Бэкус), где ему не грозили никакие опасности. Так что, если «удивление» не то слово, значит, «горе» тоже не то: может быть, просто облегчение. Возможно, что он испытал и страх, поняв, как близка была опасность, но основным чувством, наверно, было облегчение, что он ушел, избежал опасности на любых условиях. А тогда, давно, Чарльз был еще слишком мал. Он сам не знал, действительно ли он помнит по-настоящему мать Линды, как до сих пор помнят его дядя и Рэтлиф, или же нет. Но он так много и часто слыхал о ней от них обоих, что был уверен — он-то знает все, что помнят они сами, особенно Рэтлиф; у него в ушах еще звучал голос Рэтлифа: «Да, мы счастливы. У нас прямо тут, в Джефферсоне, не только жила сама Елена Прекрасная, чего в других городах не бывает, но мы даже понимали, кто она есть, а потом у нас