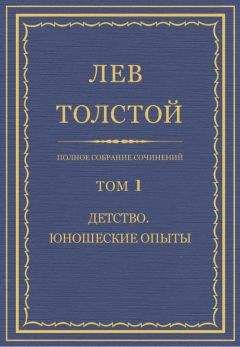— Да что̀ ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что̀ он за девочка.... непременно надо, чтобы он стал на голову!
И Сережа взял его за руку.
— Непременно, непременно на голову! закричали мы все, обступив Илиньку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.
— Пустите меня, я сам! курточку разорвете! кричала несчастная жертва. — Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.
Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и, с громким смехом, вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.
Случилось так, что после шумного смеха мы, вдруг, все замолчали и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что всё это очень смешно и весело.
— Вот теперь молодец, сказал Сережа, хлопнув его рукою.
Илинька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Илиньку. Илинька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:
— За что́ вы меня тираните?
Плачевная фигура бедного Илиньки, с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенищи, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.
Первый опомнился Сережа.
— Вот баба, нюня, сказал он, слегка трогая его ногою: с ним шутить нельзя.... Ну, полно, вставайте.
— Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, злобно выговорил Илинька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.
— A-а! каблуками бить да еще браниться! закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.
— Вот тебе! вот тебе!... Бросим его, коли он шуток не понимает.... Пойдемте вниз, сказал Сережа, неестественно засмеявшись.
Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.
— Э, Сережа! сказал я ему: — зачем ты это сделал?
— Вот хорошо!... я не заплакал, надеюсь, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.
«Да, это правда — подумал я — Илинька больше ничего, как плакса, а вот Сережа — так это молодец... что̀ это за молодец!...»
Я не сообразил того, что бедняжка плакал верно не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.
Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галченка, или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?
Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.
ГЛАВА XX.
СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ.
Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и, в особенности, судя потому, что не даром же прислал князь Иван Иваныч свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.
При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу: напротив — давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось — большой дом, с двумя внизу освещенными окнами, по средине улицы — какой-нибудь Ванька, с двумя седоками, или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных, за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна — большая в синем салопе, с собольим воротником, другая — маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом, при появлении этих особ, поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка, в коротеньком, открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка; головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади — к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Иванычу, я не поверил бы, что они вьются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки Московских Ведомостей, и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.
Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых, полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки, и улыбка которого бывает тем обворожительнее.
Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Г-жа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.
Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку: подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «quelle charmante enfant!»[33] Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее.
— Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок: — прошу же веселиться и танцовать как можно больше. — Вот уж и есть одна дама и два кавалера, прибавила она, обращаясь к г-же Валахиной и дотрогиваясь до меня рукою.
Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз.
Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо — похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то — должно быть, тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами.
Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцаловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.
— Не знаю, отвечал он мне небрежно: — я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы — гораздо веселей — все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда, прибавил он, с выразительным жестом: — прекрасно!
— Ваше сиятельство, сказал лакей, входя в переднюю: — Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?