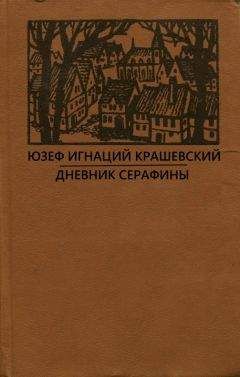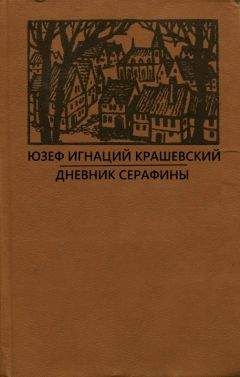Из окна удалось выследить, что детей у нее нет, в комнатах показывалась лишь старая служанка, повязанная платком, молодая служанка без платка, обе очень некрасивые, и еще казачок, одетый чисто, но по-простецки. Вдова — все были уверены, что она вдова, — сама не упускала случая лишний раз показаться в своем окне; разодетая и увешанная драгоценностями, она часто выглядывала наружу, якобы для того, чтобы обозреть улицу. Иногда она в таком наряде ходила и по дому, так что любопытствующие наблюдатели могли рассмотреть ее. Других занятий у нее как будто не было — вышивание гарусом, за которым ее временами видели, она брала в руки явно напоказ и долго над ним не сидела.
Никто но мог понять, каким образом эта всем чужая здесь женщина нашла себе знакомых, но понемногу ее стали посещать мелкие служащие, чиновники, мещане, люди среднего сословия. Вечерами за ними можно было наблюдать — они пили чай, прохаживались по комнатам, играли в вист, ужинали.
С третьего этажа, где жил Евлашевский, хорошо было видно, что делается напротив во втором, и, если не были опущены шторы, гостиная незнакомки была как на ладони.
Неведомо по какой причине, именно с этого времени Евлашевский стал неспокоен, задумчив и грустен.
Даже к пропаганде своих идей он стал более равнодушен, был словно утомлен или болен, забросил свою гитару, и никто уже не слышал его песен. Гораздо реже, чем раньше, участвовал он в чаепитиях у пани Гелиодоры, и чаще посиживал дома. Те, кто знали его давно и бывали свидетелями его творческих мук, утверждали, что он работает над новой книгой. Но когда об этом спрашивали Ваньку, тот пожимал плечами, усмехался и отвечал:
— Э, куды ж!
Студенты-медики по желтизне лица сделали вывод, что у Евлашевского больная печень и от этого он понемногу становится брюзгой.
Гелиодора, которой Евлашевский был нужен, чтобы придать вес ее салону, а может, и ей самой, сердилась на него за растущее невнимание и виновницу его плохого настроения видела в Зоне, которая относилась к нему не так, как раньше.
Гелиодора имела привычку выбалтывать все, что думает, и своих мыслей от Евлашевского не таила, пыталась даже вызвать его на откровенный разговор, не щадила резких слов, но «отец» молчал.
Заботы провели морщины на его челе, он, по-видимому, страдал, однако говорить об этом не хотел.
Друзья и ученики были обеспокоены его душевным состоянием.
Казалось, он вдруг усомнился в себе. Самая яростная полемика по наиболее животрепещущим вопросам, которые прежде так трогали его и побуждали к бурным словесным эскападам, теперь оставляла его безучастным.
Он мрачно шагал по комнате, лишь изредка вставляя словечко, чтобы отвязаться от назойливых спорщиков. Несколько раз вечером его не заставали дома и не знали, где найти.
Обо всем этом знал и мог рассказать лишь один Ефрем Васильев; считая своим долгом следить за всеми на свете, он видел, как однажды под вечер Евлашевский важным шагом, но при этом стараясь, чтобы его не заметили, прошествовал в его дом и сразу поднялся наверх, к дверям той никому не знакомой жилицы.
Тут, словно колеблясь, входить ему или нет, он простоял довольно долго, но наконец набрался храбрости и прошел прямо в гостиную, где сидела эта особа, набеленная и нарумяненная.
Было еще светло, в окнах ярко сиял закат.
Когда Евлашевский вошел, хозяйка подняла на него глаза. Тот, опустив руки и ничего не говоря, встал перед ней и сверлил ее взглядом.
Вначале она с удивлением тоже смотрела на него, затем смутилась, затрепыхалась, а под конец, крикнув: «Аннушка! Выручай!» — упала в обморок.
На крик прибежала старая служанка, всплеснула руками и заголосила. Евлашевский не сдвинулся с места.
За старой служанкой с криком прибежала молодая… Вдвоем они стали приводить в чувство свою госпожу, которая несколько раз приходила в себя, но, как только видела Евлашевского, закрывала глаза руками и вновь теряла сознание.
Это продолжалось не менее получаса, но Евлашевский не сдавался; служанки тщетно силились выпроводить его, — он отвечал им, что должен поговорить с Евдоксией Филипповной. Наконец та успокоилась, хотя еще продолжала плакать и судорожно всхлипывать.
Аннушка и ее товарка вышли — она сама дала им знак оставить ее одну, — но, видимо, для ее же безопасности подслушивали под дверью, так как позже вся эта сцена получила широкую огласку, и даже о ней на другое утро узнал что-то Васильев, но ни одной живой душе ничего ее сказал, только стал косо поглядывать на Евлашевского и при виде его кривил губы.
После ухода служанок Евлашевский еще долго не мог начать разговор, потому что Евдоксия, как только поднимала на него глаза, тотчас же закрывала лицо руками и заходилась в плаче.
Он ждал.
— Ну, так как же, Евдошка, — проговорил он наконец, — ты что, знать меня не хочешь?
Ответом было рыдание.
В конце концов женщина простонала, давясь слезами:
— Я вас не знаю! Не знаю! Так же, как вы меня не знали! Ни знать, ни ведать о вас не хочу!..
— Так это я виноват? — прервал ее Евлашевский.
— А кто же? Кто? — чуть слышно прошептала женщина и снова расплакалась.
Евлашевский не отступал.
— Напрасно будешь ты отпираться от меня, — начал он медленно, видя, что слез и рыданий не переждешь, — напрасно, Евдошка, правда все равно обнаружится. Ты была моей женой и не мне судить, кто из нас виноват — ты ли, я ли или мы оба, но вот что из этого вышло. Сколько лет прошло, Евдошка, а я как был нищим, так им и остался, а ты стала дамой. Я не женился, о тебе помнил, а ты вот жила с другим. По какому праву? Ты была моей женой и не переставала ею быть.
— Нет, нет! — стала кричать женщина. — Пусть бог нас рассудит, пусть люди рассудят — я невинна. Мне от тебя ничего не надо, и ты тоже ничего от меня не требуй, как бросил меня когда-то, так пусть и останется вовеки.
— Эй, эй! — холодно остановил ее Евлашевский. — Напрасно ты это, так быть не может. Ты была моей и должна остаться моей. Я уж не спрашиваю, что там с тобой происходило, но теперь сама судьба привела тебя сюда… Так что напрасно сопротивляешься, ты уже не выскользнешь у меня из рук.
Тут Евдоксия Филипповна, продолжая рыдать, в отчаянии сорвалась со стула и, сжав кулаки, подбежала к Евлашевскому, который упорно стоял на одном месте.
— Будь что будет! Пусть меня забирают и распинают, пусть меня бичуют и казнят, пусть сажают в тюрьму, я не хочу тебя знать и не буду…
— Посмотрим! — холодно отозвался на эти слова Евлашевский.
— О, я знаю! — кричала женщина, ломая руки, — приди я как ушла, в одной рубашке, без копейки за душой, ты бы меня и знать не знал и помнить не помнил! Ты на мое добро заришься! Я-то тебя знаю! Ух и опротивел ты мне, черт проклятый! Как вспомню свою жизнь, молодость свою и все, что привелось от тебя перетерпеть, так хоть сейчас готова в Днепр броситься, все лучше, чем снова начать ту муку.
Евлашевский не оправдывался, только шевелил губами, пожимал плечами и ждал, когда уймется буря. Женщина не переставала заливаться слезами.
— Как хочешь, Евдоксия Филипповна, — заговорил Евлашевский после долгой паузы, — воля твоя. Я доложу в полицию, что ты моя жена, много лет тому назад сбежавшая от меня и канувшая словно в воду. Пускай назначат следствие, я принесу присягу, ты не можешь — душу загубишь. А присягнешь, я свидетелей найду. Должна будешь ответ держать — с кем жила, откуда у тебя то, что имеешь. Тогда посмотрим, что ты запоешь.
Он прошелся по комнате.
— Напрасно ты это, Евдоксия, я своего не упущу, и ты от меня не сбежишь. А хочешь поговорить по-хорошему, посоветоваться, поладить — попробуем.
Бедная женщина не знала, что предпринять, ломала в отчаянии руки, а перепуганные служанки под дверью призывали всех известных им святых спасти их хозяйку.
Была у них мысль бежать в полицию и дать знать о напасти, но, не понимая толком, в чем дело, они побоялись заварить кашу, чтобы не было еще хуже.
Буря в конце концов стала стихать, и теперь до их ушей доносились звуки разговора, лишь иногда прерываемого приглушенными всхлипами. Очень не скоро, уже ночью, Евлашевский наконец ушел, и хозяйка позвала Аннушку. Та нашла ее в полуобморочном состоянии, страшно изменившейся: слезы смыли с ее лица белила и румяна, она не могла вымолвить ни слова, ничего не хотела объяснить и лишь сетовала на то, что господь жестоко покарал ее…
Вдова ни к кому не питала доверия, но, поскольку ей непременно нужен был совет, служанки кликнули на помощь Васильева, который им всем казался добрым, сердобольным человеком. Купец охотно поднялся наверх. Долго его жилица не могла собраться с духом и рассказать всю правду, но наконец, заливаясь слезами, начала свое признание:
— Я была простой казачкой, и этот человек женился на мне из-за моей красы. Я ребенком была, когда это случилось, и ничего не понимала, думала только, что стану важной пани, потому что у Евлашевского был небольшой надел, а чего она стоила, его земля, — этого никто не знал. Вскоре ему опротивели и деревня и жена. Он рвался в большой город и все попрекал меня, что я камнем вишу у него на шее, гирей на ногах. О, если я не умерла, душу не выплакала и не утопилась, так только потому, что бог хранил меня.