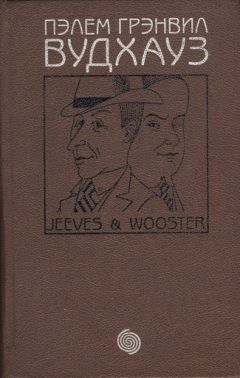— О, в самом деле? — сказал он, хватаясь за нос.
— Теперь вы размазали его по щеке. На вашем месте я бы по примеру Бартоломью отправился в ванную.
— Так я и сделаю. Благодарю вас, Вустер.
— Не за что, Спод, вернее Сидкап. И не жалейте мыла.
По-моему, ничто так не поднимает настроение, как созерцание сил тьмы, севших в калошу, и когда я шел к дому, на сердце у меня было легко и радостно. Будто гора с плеч свалилась. Птички распевали, насекомые жужжали. «Ура, ура! Бертрам выпутался!» — слышалось мне в их хоре.
Но я часто замечал, что стоит мне выпутаться из одной неприятности, как судьба тотчас подкрадывается ко мне и исподтишка подсовывает новую гадость, будто хочет полюбопытствовать, а нельзя ли еще чего-нибудь взвалить на Бертрама. Вот и теперь она сразу взялась за дело. Нечего ему успокаиваться, сказала судьба, поплевала на ладони и принялась строить мне козни, а именно: наслала Мадлен Бассет, которая приперла меня к стенке, когда я проходил через холл.
Меньше всего на свете мне хотелось с ней разговаривать; пребывай она в своей обычной слезливой меланхолии, — куда ни шло, но сейчас она была сама не своя. От ее всегдашней томности не осталось и следа. Глаза метали молнии, от которых у меня сразу задрожали поджилки. Она прямо-таки клокотала от гнева, и то, что готово было сорваться у нее с языка, явно не побудило бы последнего из Вустеров радостно аплодировать и петь осанну, подобно херувимам или серафимам, если я ничего не напутал. И правда, она тотчас же без всякой преамбулы, — так, кажется, говорится, — выложила все, что у нее накипело.
— Огастус привел меня в ярость! — выпалила она, и сердце у меня замерло, будто фантом «Тотли-Тауэрса», если таковой имеется, сдавил его своей ледяной рукой.
— Почему? Что стряслось?
— Он оскорбил Родерика.
Невероятно. Оскорбить такую махину, как Спод, рискнул бы, пожалуй, только чемпион по боксу.
— Быть не может!
— Я хочу сказать, Огастус оскорбительно о нем отозвался. Сказал, что его тошнит от Родерика, что ему осточертело смотреть, как он тут расхаживает, будто у себя дома, и что не будь папочка глуп, как бильярдный шар, он брал бы с Родерика квартирную плату. Огастус был отвратителен.
Тут сердце у меня замерло еще пуще прежнего. Не будет преувеличением сказать, что я так струхнул, что едва удержался на ногах. Вот что делает с человеком вегетарианская диета, подумал я, в один миг из кроткого ягненка он превращается в разъяренного льва. Не сомневаюсь, что в тех кругах, где вращался поэт Шелли, тоже замечали, как пагубно влияет на него вегетарианская диета.
Я постарался успокоить бурю, бушующую в ее душе.
— Может, Огастус просто пошутил?
— Нет, он не шутил.
— А не было ли у него озорного блеска в глазах?
— Нет.
— И легкой усмешки не было?
— Нет.
— Может, ты просто не заметила. Не заметить легкую усмешку — обычное дело.
— Он говорил совершенно серьезно.
— В таком случае он, вероятно, испытал приступ, — как бишь это называется? — маниакального возбуждения. С кем не случается!
Она заскрежетала зубами. Во всяком случае, мне явственно послышался скрежет.
— Ничего подобного. Он был груб и дерзок; он уже давно стал таким. Я еще в «Бринкли» это заметила. Как-то рано утром мы с ним гуляли по лужайке, и трава была подернута такой легкой-легкой пеленой тумана. Я ему и говорю: «Не кажется ли тебе, что он похож на свадебную фату, сотканную эльфом?» — «Не кажется», — буркнул Огастус и добавил, что ничего глупее в жизни не слышал.
Слов нет, Гасси был прав на все сто, но разве это втолкуешь такой девице, как Мадлен Бассет?
— А вечером мы с ним любовались закатом, и я сказала, что он всегда наводит меня на мысль о Благословенной Деве, выглядывающей из-за золотого края небес, а он спрашивает: «О ком — о ком?», я объясняю: «О Благословенной Деве», и тогда он сказал, что сроду ни о какой Благословенной Деве, выглядывающей с небес, не слышал и вообще его тошнит от закатов и Благословенных Дев, и у него болит живот.
Я понял, что пробил час raisonneur'a.
— Это было в «Бринкли»?
— Да.
— Ясно. Значит, после того, как ты посадила его на вегетарианскую диету. А ты уверена, — сказал я, raisouneur'ствуя что есть мочи, — что поступила разумно, ограничив Гасси шпинатом и прочей растительностью? Не один гордый дух восставал, когда его лишали протеинов. Не знаю, известно ли тебе, но научными исследованиями установлено, что идеальная диета — это такая диета, где сбалансировано количество мясной и растительной пищи. Человеческому организму требуются какие-то там кислоты.
Не скажу, что она откровенно фыркнула, однако изданный ею звук весьма напоминал фырканье.
— Какая чушь!
— Так говорят врачи.
— Какие врачи?
— Известные специалисты с Харли-стрит.
— Я им не верю. Тысячи людей сидят на вегетарианской диете, и у них отличное здоровье.
— Здоровое тело, да, — сказал я, ловко нащупав дискуссионную тему. — Но подумала ли ты о душе? Лиши человека бифштексов и отбивных, и неизвестно, что случится с его душой. Моя тетушка Агата однажды посадила дядюшку Перси на вегетарианскую диету, и у него сразу испортился характер. Правда, — я вынужден был это признать, — в известной мере характер у него уже был подпорчен, ибо постоянное общение с тетей Агатой ни для кого не проходит бесследно. Держу пари, что с Гасси случилось то же самое, вот увидишь. Баранья котлетка, от силы, две — это все, что ему требуется.
— Ну нет, этого он не дождется. И если он и дальше будет себя вести, как капризный ребенок, я знаю, что мне делать.
Помню, Раззява Пинкер однажды рассказывал, что, когда он заканчивал Оксфорд, то поехал в Бетнел Грин нести свет истины, и какой-то уличный торговец дал ему ногой под-дых. Пинкер говорил, что в тот момент у него странно помутилось в голове и перед глазами все поплыло, будто во сне. Вот и у меня после зловещих слов Мадлен Бассет тоже возникло такое же странное ощущение. Ее слова, выдавленные сквозь зубы, сразили меня наповал, будто увесистый сапог уличного торговца угодил мне прямо в солнечное сплетение.
— Э-э… и что же именно ты намерена сделать?
— Не имеет значения.
Я осторожно пустил пробный шар.
— Предположим… нет, вряд ли, конечно, это возможно, но… предположим, Гасси, доведенный диетой до отчаяния, накинется на… ну, скажем, например, на холодный пирог с телятиной и почками, какова будет развязка?
Вот уж не думал, что Мадлен может навылет пронзить человека взглядом, но оказалось, может, и еще как. По-моему, она даже саму тетю Агату переплюнула.
— Берти, ты хочешь сказать, что Огастус ел пирог с телятиной и почками?
— Ни Боже мой! Это просто… ну, как это называется?
— Я тебя не понимаю.
— Как называются вопросы, которые на самом деле как бы и не вопросы? Начинается на «р»… А-а, вспомнил, — риторические! Так вот, это был чисто риторический вопрос.
— Да? Тогда ответ таков: с той минуты, когда я узнаю, что Огастус поедает плоть в злобе убиенных животных, между нами все кончено, — сказала она и отчалила, а я остался стоять с таким чувством, будто меня по стенке размазали.
Утро следующего дня выдалось яркое и прекрасное. По крайней мере, мне так показалось. Сам я рассвета не видел, потому что погрузился в беспокойный сон всего за несколько часов до того, как упомянутый рассвет проклюнулся и принялся за дело, но когда дремотный туман немного рассеялся и я вновь обрел способность воспринимать окружающий мир, то увидел, что солнечный свет вовсю просачивается сквозь ставни, а мое ухо различило щебетанье сотен пташек, ни одна из которых, не в пример мне, не ломала голову над проклятыми вопросами. Такая развеселая компания, а слушать горько, ибо меланхолия накрыла меня своим крылом, как выразился один поэт. Радостный птичий гомон и суета только усиливали уныние, в которое я погрузился после того, как вчера мы с Мадлен Бассет дружески поболтали. Нетрудно себе представить, что ее obiter dicta[23] — по-моему, это именно так называется, — сразило меня не хуже пули. Бесспорно, речь тут шла не о простой размолвке, которую можно уладить слезами и парой поцелуев, а о настоящей трещине через всю лютню. И я понимал: если не принять пожарных мер по соответствующим каналам, то лютня придет в полную негодность и замолчит раз и навсегда, подобно барабану, в котором образовалась дырка. А по каким каналам принимать эти самые пожарные меры — вот вопрос. У них с Гасси, как говорится, нашла коса на камень. С одной стороны, Мадлен, решительно восстающая против поедания плоти, с другой — Гасси, который твердо вознамерился поедать всю плоть, подвернувшуюся ему под руку. Я спросил себя, что из этого может проистечь, и задрожал, представив себе свое будущее, но тут рядом возник Дживс с утренней чашкой чая.