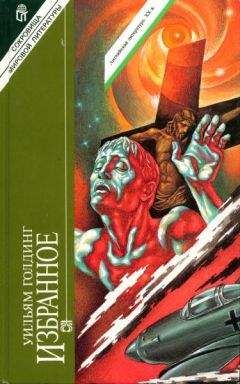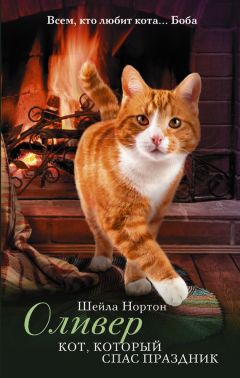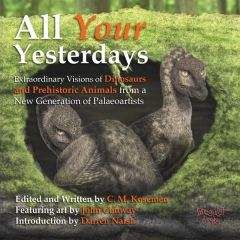В два часа ночи я выскользнул из дома в осеннюю мглу, в лондонский туман. Считалось, что семейство, с которым я жил, доносит о моих передвижениях властям. Я покатил на велосипеде в ночной мрак, не осмеливаясь объезжать посты. Сначала меня остановил один полицейский и записал мое имя и адрес, затем – двое. Когда меня задержали в третий раз, мне уже стало невмоготу, и я честно признался истукану в синем мундире, что это любовь, и тот махнул мне рукой и пожелал удачи. Наконец я добрался до ее двери, просунул письмо и услышал, как оно упало. Весь обратный путь я повторял себе: по крайней мере я поступил честно и честно не знаю, как мне быть.
Как они реагируют на это про себя, эти мягкие дьявольские создания? По какой шкале отмечают степень силы чувства? Сношение с женщиной я уже имел. Об этом позаботилась партия – в лице Шейлы, чернявой и черномазой. Мы доставили друг другу втихую немного удовольствия – не больше, чем когда раздаешь пакет ирисок. К тому же это шло по разряду нашей идиотской декларации независимости – декларации, проявляемой в том, чтобы вести себя, как Олсоп. Это называлось свободой. Но те, другие, не столь свободные, нетронутые девушки – как они к этому относятся, что чувствуют? Может, они такие же мыльные пузырьки, как Сэмми из Поганого проулка, летящие по ветру, легко ранимые, но еще сохранившие себя? Конечно, ее уже просветили! Но как она себе это представляет? Спору нет, сам процесс должен казаться ужасным, непроизносимым – да таков он и есть, уж я-то знаю. Тогда что же для нее любовь? Нечто отвлеченное, в чем так же мало человеческого, как в танцующих символах световых реклам на Пиккадилли? Или любовь немедленно связывается с белым подвенечным платьем, с собственным домом? Год за годом она одевалась и раздевалась, пестовала свое тело. И ни разу с участившимся пульсом и дыханием не думала: он влюблен в меня, он хочет сделать со мной… это? Может, сейчас при повсеместном распространении просвещения девственность утратила свое священное тавро и девушки жаждут пуститься вплавь? В конце концов, речь идет о социальной условности, обычае. Правда, Беатрис принадлежит к низшим слоям среднего класса, где инстинкт и обычай требовали сохранять в целости то, что у тебя есть. А в те годы средний класс, низменный и жадный, обладал большой силой и прочным положением. Не могу сказать, какой переполох я вызвал в ее гнездышке, и вызвал ли вообще. Не мог сказать тогда и не могу сейчас, ничего не знал о ней тогда и не знаю сейчас. Но письмо она прочла.
На этот раз я не стал делать вид, будто ехал мимо. Я сидел на седле, сжимая правой рукой рог руля, опустив левую ногу на тротуар. Мне было видно, как они вываливаются из двустворчатых дверей, и она вышла вместе со всеми. Подружки, дай им Бог здоровья, видимо уже натасканные, тут же отвалили, даже не хихикая. Я смотрел ей прямо в глаза и сгорал от стыда за свою исповедь.
– Ты прочла?
Но мои признания не вогнали ее в краску. Не обменявшись ни словом, мы проследовали в «Лайонз» и молча заняли столик.
– Так как?
Только теперь она бросила на меня взгляд из-под ресниц и ласково, словно больному, проронила:
– Не знаю, что сказать тебе, Сэмми.
– Я написал чистую правду – все как есть. Ты, – протягивая руки, – победила меня. Положила на обе лопатки.
– Каким образом?
– Ну, это ведь своего рода борьба – кто кого.
Но глаза ее сияли пустотой – она все еще не понимала.
– Ладно. Замнем для ясности. Раз тебе непонятно. Ладно. Ну, пожалей меня! Дай мне шанс… Не такое же я пугало. Я знаю, не красавец, но по-настоящему, – глубокий вздох, – по-настоящему… ты же знаешь, что я чувствую.
Молчание.
– Так как?
– Твой курс по литографии. Он же не будет длиться вечно. И ты станешь ездить другой дорогой.
– Мой курс? При чем это тут? А, вот ты о чем! Но я думал, если ты и я… мы могли бы поехать за город, и тогда ты… От меня, честное слово, не будет вреда…
– Но твой курс!
– А, ты догадалась? Ну так вот: я сегодня же бросаю школу. В жизни есть вещи поважнее.
– Сэмми!
Два безмятежных озерца стали наполняться удивлением, благоговением, проблесками размышления. Может, она думала про себя: значит, это правда, он влюблен. Он идет ради меня на жертву. Значит, я стою любви. Я нисколько не хуже других. Надо его пожалеть.
– Ты поедешь? Скажи, что поедешь, Беатрис!
Она была образцово добродетельна на всех уровнях. Да, она поедет. Но я должен обещать – нет, не в обмен, никаких торгов! – должен обещать, что не брошу училища. Ни в коем случае. По-моему, она уже начинала чувствовать себя главной силой, благотворным влиянием, но от этого ее вмешательства в мое будущее сердце у меня так взыграло, что я ничего не стал анализировать.
Нет, не в субботу. В воскресенье. Суббота у нее занята, сказала она, как бы даже удивляясь, что можно посягать на субботу. Так я встретился с моим первым и единственным соперником. И вот что поразило меня тогда – как, впрочем, поражает и сейчас: во-первых, из-за этого незримого соперника я внутренне рвал и метал, а во-вторых, физически его вовсе не существовало. Между тем она была со мной необыкновенно мила, неповторима и красива – или только на мой взгляд красива? Если бы все молодые люди видели ее моими глазами, ей не было бы проходу от толпы поклонников! Неужели никакой другой мужчина не загорелся таким же неутолимым желанием знать все, преобразиться в кого-то другого, понять? Неужели только я испытывал рядом с ней это смешение чувств – обожания, ревности и мускусного озноба вожделения? И были ли они, эти другие? Все ли испытывают тот же восторг, услышав «да», и одновременно смятение от радости и благодарности за это «да» и дикую ярость за то, что пришлось его выпрашивать?
Мы бродили по дюнам в серенькую погоду, и я выкладывал перед ней свой талант. И сам себе удивлялся. А пока описывал ей, как внутренние силы заставили меня рисовать, проникался собственной гениальностью. Но ей я, конечно, изображал это как недуг, преграждавший мне путь к респектабельной жизни и процветанию. То есть так мне кажется: ведь все это только домыслы. На самом деле частично дело в том, что я сам не понимаю, почему все так со мной происходит. Впрочем, она не облегчала мне задачу, так как почти все время молчала. Единственное, в чем я уверен, – мне удалось нарисовать ей картину мятежной души, заслуживающей благоговения и жалости. Хотя истина была где-то на порядок ниже, рана не столь трагична и, как ни парадоксально, не столь легко излечима.
– Ну так как? Что ты скажешь?
Молчание; абрис в профиль. Мы как раз спускались с хребта, чтобы нырнуть в сырую рощу, и, когда остановились на опушке, я взял Беатрис за руку. Даже капли уважения к себе во мне не осталось. Ни на что не осмелиться! Ничего не достичь!
– И тебе совсем не жаль меня?
Она не отняла руку – оставила в моей. Впервые в жизни я коснулся ее. И услышал коротенькое «может быть», прошелестевшее, уносимое ветром.
Поворот головы, и ее лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. Я наклонился вперед и нежно, целомудренно поцеловал Беатрис в губы.
Наверно, мы продолжали спуск, и, наверно, я что-то говорил ей. Но слов не помню. Помню только охватившее меня удивление.
И не только это. Помню, я сделал открытие, суть которого сводилась к тому, что этим немым, спровоцированным ею поцелуем я пожалован в статус «ее парня». И это давало мне два преимущества. Первое: я мог располагать ее свободным временем, и она не станет проводить его ни с одним другим мужчиной. Второе: изредка, в особых случаях, а также при вечернем расставании мне полагался такой же сугубо целомудренный поцелуй. Почти уверен, что в тот момент Беатрис отпустила мне его в порядке профилактики. «Мой парень» всегда замечательный парень, а следовательно – так, скорее всего, рассуждала Беатрис, – если Сэмми станет «ее парнем», у него все пойдет замечательно. Войдет в норму. Ах, душечка Беатрис!
О моей приверженности коммунизму я помалкивал. Не давать же фору сопернику. Он, верно, был не менее ревнив, чем я, считая, что каждый, кто водится с исчадиями ада, должен быть заклеймен. По правде сказать, меня Ник попутал со своим социализмом: сам бы я в жизни не полез в политику. Я орал и согласно кивал вместе со всеми, я шел с ними, потому что они хоть куда-то шли. Если бы не племянник мисс Прингл, который теперь уже сильно продвинулся у чернорубашечников, я, пожалуй, надел бы черную рубашку и сам. Правда, в то время с нами со всеми что-то творилось. И хотя Уимбери убеждал и себя, и нас, что войны не будет, мы не питали иллюзий на этот счет. Мир вокруг нас неудержимо сползал в бурлящий хаос, где нравственности, семье, личным обязательствам вообще не было места. В воздухе веяло нордическим духом «заката Европы». И, верно, поэтому нам ничего не стоило переспать с женщиной – никакой ответственности. Только спали мы с теми, кто разделял это чувство безумного бега. Беатрис же была из другого круга. Не из того, где «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».