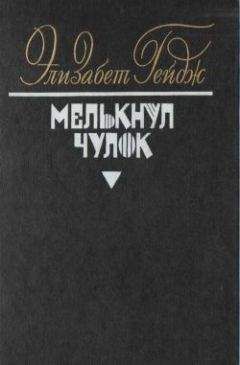Автобус обогнал взбиравшихся в гору велосипедистов.
– Взять на буксир? – крикнул я, но они не расслышали. Та, с коляской, плелась в хвосте.
Мы разложили на коленях провизию, и мы совсем забыли править, предоставив водителю у себя в кабине внизу гнать нас куда ему вздумается по сумасшедшим ухабам, и назад убегали: оплаканные дождями часовни, линялые ангелы; у холмов, от моря подальше, – розовые дачки (жуть, я думал, вот бы где я не стал жить, потому что среди деревьев и трав я себя чувствую как в клетке, хуже даже, чем среди уличной толчеи под частоколом дымящих труб), бензонасосы, скирды и возчик на ломовике, вросший в кювет под облаком мух.
– Так только страну и увидишь.
На узком крутом подъеме двое пеших с рюкзаками шарахнулись от автобуса под укрытие ограды, вобрали животы, распялили руки.
– Вот бы и мы с тобой так.
Мы радостно оглянулись на тех, приплюснутых к ограде. Они выкарабкались на дорогу, снова поползли, как улитки, мигом сделались крошечными.
У въезда в Россили мы нажали на кондукторскую кнопку, остановили автобус и бодро, пружинисто прошагали несколько сотен шагов до деревни.
– Довольно быстро добежали, – сказал Рэй.
– Рекорд установили, – сказал я.
Хохоча – на скале над длинным-длинным золотым пляжем, – мы показывали друг другу Голову Червя так, будто кто-то из нас слепой. Был отлив. Мы перешли по склизким камням, и вот мы, ликуя, стояли на ветру, на вершине. Тут была немыслимая трава, нас на ней подбрасывало, и мы хохотали, скакали, вспугивая овец, бегавших, как козлы, вверх-вниз по выбитым тропам. Даже в такой тишайший день тут бушевал ветер. На самом верху змеистого, бугристого утеса чайки тучей – я в жизни не видел их столько – рыдали над свежими утратами и вековечным пометом. В этом месте мой голос был подхвачен, увеличен, преображен в гулкий крик, ветер образовал вокруг меня раковину, и во всю ширь, во всю высь опрокинулись синие неосязаемые своды неба, и шелест крыльев был здесь как гром. Я стоял расставив ноги, подбочась, ладонь – козырьком у глаз, как Рэлли[21] на какой-то картинке, – и был как будто один-одинешенек в тот эпилептический миг в страшном сне, когда ноги растут и врастают в ночь, сердце бухает так, что соседей разбудишь, и дыхание ураганом несется сквозь безразмерную комнату. Я не был жалкой точечкой на вершине, между небом и морем, нет, я был громадный, как дышащий небоскреб, и только Рэй в целом свете мог тягаться со мной дивным ревом, и я ему крикнул:
– Почему бы нам тут не поселиться навеки? На веки вечные? Дом построить, черт побери, и королями зажить!
Рев влетел в клёкот чаек, и они понесли его к мысу под барабанный бой крыльев; Рэй гарцевал, нависая над хлипким краем утеса, и размахивал тростью, заклинающей пламя и змей; и мы припали к земле, к пружинистой, чайками побеленной траве, к камням в овечьих катышках, костях и перьях, мы лежали на самой крайней точке Косы. Мы так долго не шевелились, что грязно-серые чайки поуспокоились и некоторые присаживались с нами рядышком.
Потом мы прикончили нашу еду.
– Другого такого места нет, – сказал я. Я уже снова был почти моего собственного размера, сто пятьдесят два сантиметра, сорок с чем-то килограммов, и голос мой уже не взмывал в увеличительную высь. – Мы в открытом море. И Червь двигается, да? Давай его в Ирландию направим. Йетса увидим, ты к камню Бларни приложишься.[22] В Белфасте сражаться придется.
Рэю на краю утеса было не по себе. Он не желал наслаждаться – греться на солнышке, или на бок повернуться, в пропасть заглянуть. Нет, он норовил сесть прямо, как на стуле, и он не знал, куда девать руки. Играл своей нудной тросточкой и ждал, когда день пойдет по правильной колее, Червь пустит тропы, а над отвесными кручами вырастут перильца.
– Да, диковато тут для комнатной крысы.
– Сам крыса. А кто автобус остановил?
– А то ты не рад, что остановили! Еще шли и шли бы, как Феликс.[23] Да ты просто прикидываешься, что тебе тут не нравится. Сам небось плясал.
– Два раза подпрыгнул.
– А-а, ясно, тебе мебель не подходит. Нехватка диванов и кресел, – сказал я.
– Строишь из себя деревенского, а корову от лошади не отличишь.
Мы стали переругиваться, и скоро Рэю полегчало – он отключился от скучной реальности вольного мира. Если бы вдруг сейчас пошел снег, он бы не заметил. Он весь ушел, он втянулся в себя, и на утесе он был в темноте, как за закрытыми ставнями.
Двое гигантов, оравших на птиц, затихли в траве – маленькие, едва слышные ворчуны у себя в норке.
Я уж знал, что сейчас начнется, когда Рэй голову опустил, задрал плечи, и получилось, что у него нет шеи, и он выдохнул воздух, не размыкая зубов. Он уставился на свои пыльные белые туфли, и я понял, что он представляет себе: ноги мертвеца в постели – и сейчас он заговорит про брата. Иной раз, когда мы, навалясь на ограду, смотрели футбол, я замечал, как он разглядывал свою руку, он ее истончал, раздевал от мышц, делал бесплотной, он видел перед собой руку Гарри – кожа да кости. Если он хоть на минутку отключится, если оставить его одного, если он опустит глаза, перестанет сжимать твердую природную ограду или свою горячую трубку – сразу он угодит в те страшные комнаты, будет таскать тряпки и миски, прислушиваться к колокольчику.
– В жизни не видал такой уймы чаек, – сказал я. – А ты? Такая уйма чаек. Вот попробуй их сосчитай. Видишь, там две подрались. Ой, смотри, как куры, в воздухе друг друга клюют! На что спорим – победит которая больше. У, носатая! Не завидую ее сегодняшнему ужину – кусочек ягнятины и мертвая чайка. – Я сам себя послал подальше за эту свою «мертвую». – В городе утром весело было, да? – сказал я.
Рэй смотрел на свою руку. Теперь его было не остановить.
– В городе весело было? Все в летнем снаряжении, улыбки и смех. Детишки играют, все довольны, прямо куда там. А я отцу встать не давал с постели, когда он зайдется. Силком в постели держал. Я брату простыни два раза в день менял – все в крови. Я видел – он худеет, худеет. Под конец его одной рукой можно было поднять. А жена к нему не заходила, потому что он ей кашлял в лицо. Мама не ходячая, мне и еду сварить, и с ложечки их покормить, простыни менять, отца в постели силком держать, когда зайдется. Не очень-то будешь тут жизни радоваться.
– Но ты же любишь ходить, ты так радовался. Смотри, какой изумительный день, Рэй. Насчет брата – это кто спорит. Ну давай осмотримся. Давай спустимся к морю. Может, мы пещеру найдем с доисторической живописью, напишем про нее статью, кучу денег огребем. Давай спустимся.
– Брат меня подзывал колокольчиком. Он только шепотом мог говорить. Говорил: «Рэй, погляди на мои ноги. Со вчерашнего не похудели?»
– Солнце садится. Давай спустимся.
– Отец думал, я его хочу убить, когда я ему встать не давал с постели, силком держал. Я держал его, когда он умирал, а он хрипел. Мама на кухне, в своем кресле, была, но она поняла, что он умер, и стала кричать, сестру звать, а сестра – в больнице. Мама кричит, Гарри у себя в колокольчик звонит, а я не могу к нему подойти, а отец мертвый в постели лежит.
– Я к морю спускаюсь. Ты идешь?
Он вылез из своей норы на свет Божий и пошел за мной через вершину и дальше, по круче вниз. Бурей взметнулись чайки. Я цеплялся за острые, сухие кусты, но я выдирал их с корнем, опора под ногами у меня посыпалась, место, за которое я ухватился рукой, подалось; я снова пополз вверх по черной плоской скале, отворачивающей от моря маленькую, как у Червя, головку в нескольких гибельных шагах от меня, и, весь мокрый от летящей воды, я поднял глаза и увидел Рэя: он падал, и за ним был ливень рушащихся камней. Ему удалось приземлиться со мною рядом.
– Я уж думал – мне каюк, – сказал он, когда перестал дрожать. – Вся жизнь промелькнула перед глазами.
– Вся-вся?
– Ну почти. Я лицо брата, ну вот как твое сейчас, видел.
Мы стали смотреть, как садится солнце.
– Как апельсин.
– Помидор.
– Аквариум с золотыми рыбками.
Мы наперебой изощрялись в описании солнца. Море ударялось о нашу скалу, лизало нам брючины, жалило щеки. Я снял ботинки, и взял Рэя за руку, и сполз на животе так, чтоб пополоскать ноги в море. Потом Рэй тоже сполз, и я держал его, пока он обмакивал ступни.
– Ладно, пошли, – сказал я и потянул его за руку.
– Нет! – сказал Рэй. – Это так изумительно. Я только чуть-чуть их еще в воде подержу. Тепло, как в ванне.
Он брыкался и фыркал, колотил, как сумасшедший, свободной рукой по скале, изображая, будто он тонет.
– Не надо меня спасать! Тону! Тону!
Я тянул его за руку, он вырывался, и он смахнул со скалы ботинок. Ботинок мы выудили. Он был весь полный воды.
– Ничего, зато удовольствие получил. Я с шести лет в море не плескался. Ты себе не представляешь, как мне хорошо.
Он забыл про отца и брата, но я же знал, что, как только пройдет его радость от теплой, буйной воды, он снова вернется в тот страшный дом, где худеет, худеет брат. Я сто раз слышал про то, как умирал Гарри, и сумасшедшего отца знал не хуже, чем самого Рэя. Я каждый крик, каждый хрип и кашель их знал, каждую судорогу.