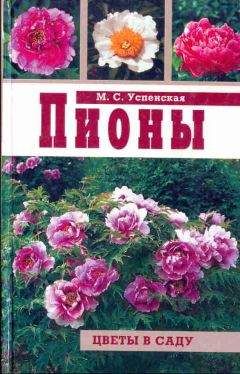— Может быть, устал, парень? — спросил старик, останавливаясь. — Тогда беги домой. Я теперь и один управлюсь.
— Нет, нет, не устал, — проговорил я, с горечью вспомнив о том, что скоро опять останусь в одиночестве.
— Ну, ин ладно, — согласился старик. — Дома только, смотри, чтобы не заругали.
— У меня нет дома, — с внезапной откровенностью сказал я. — То есть у меня есть дом, только далеко.
И, подчиняясь желанию поделиться с кем-нибудь своим горем, я рассказал старику все.
Он внимательно выслушал меня, пристально и чуть-чуть насмешливо посмотрел в мое смущенное лицо.
— Это дело разобрать надо, — сказал он спокойно. — Хотя Сормово и велико, но все же человек — не иголка. Слесарем, говоришь у тебя дядя?
— Был слесарем, — ответил я, ободрившись. — Николаем зовут. Николай Егорович Дубряков. Он партийный, должно быть, как и отец. Может, в комитете его знают?
— Нет, не знаю что-то такого. Ну, да уж ладно. Вот кончим расклеивать, пойдешь со мною. Я тут кой у кого из наших поспрошу.
Старик почему-то нахмурился и пошел, молча попыхивая горячей трубкой.
— Так отца-то у тебя убили? — неожиданно спросил он.
— Убили.
Старик вытер руки о промасленные, заплатанные штаны и, похлопав меня по плечу, сказал:
— Ко мне сейчас зайдешь. Картошку с луком есть будем и кипяток согреем. Чай, ты беда как есть хочешь?
Ведро показалось мне совсем легким. И мой побег из Арзамаса показался мне опять нужным и осмысленным.
Дядя мой отыскался. Оказывается, он был не слесарем, а мастером котельного цеха.
Дядя коротко сказал, чтобы я не дурил и отправлялся обратно.
— Делать тебе у меня нечего… Из человека только тогда толк выйдет, когда он свое место знает, — угрюмо говорил он в первый же день за обедом, вытирая полотенцем рыжие сальные усы. — Я вот знаю свое место… Был подручным, потом слесарем, теперь в мастера вышел. Почему, скажем, я вышел, а другой не вышел? А потому, что он тары да бары. Работать ему, видишь, не нравится, он инженеру завидует. Ему бы сразу. Тебе, скажем, чего в школе не сиделось? Учился бы тихо на доктора или там на техника. Так нет вот… дай помудрю. От лени все это. А по-моему, раз уж человек определился к какому делу, должен он стараться дальше продвинуться. Потихоньку, полегоньку, глядишь — и вышел в люди.
— Как же, дядя Николай? — тихо и оскорбленно спросил я. — Отца, к примеру, взять. Он солдатом был. По-твоему выходит, что нужно ему было в школу прапорщиков поступать. Офицером бы был. Может, до капитана дослужился. А все, что он делал, и то, что, вместо того чтобы в капитаны, он в подпольщики ушел, этого не нужно было?
Дядя нахмурился:
— Я про твоего отца не хочу плохо сказать, однако толку в его поступках мало что-то вижу. Так, баламутный был человек, неспокойный. Он и меня-то чуть было не запутал. Меня контора в мастера только наметила, и вдруг такое дело сообщают мне: вот, мол, какой к вам родственник приезжал. Насилу замял дело.
Тут дядя достал из миски жирную кость, густо смазал ее горчицей, посыпал крупно солью и, вгрызаясь в мясо крепкими желтыми зубами, недовольно покачал головой.
Когда жена его, высокая красивая баба, подала после обеда узорную глиняную кружку домашнего кваса, он сказал ей:
— Сейчас прилягу, разбудишь через часок. Надо сестре Варваре письмо черкнуть. Борис заодно захватит, когда поедет.
— А когда поедет?
— Ну когда — завтра поедет.
В окно постучали.
— Дядя Миколай, — послышался с улицы голос. — на митинг пойдешь?
— Куда еще?
— На митинг, говорю. Народу на площади собралось уйма.
— А ну их, — отмахнулся рукой дядя, — нужно-то не больно.
Подождав, пока дядя ляжет отдыхать, я тихонько выбежал на улицу.
«А дядя-то у меня, оказывается, выжига! — подумал я. — Подумаешь, шишка какая — мастер! А я-то еще думал, что он партийный. Неужели так-таки и придется в Арзамас возвращаться?»
Две или три тысячи человек стояли около дощатой трибуны и слушали ораторов. Из-за людей мелькнуло знакомое рябое лицо пронырливого Васьки Корчагина. Я окликнул его, но он не услышал меня.
Я пустился догонять его. Раза два его курчавая голова показывалась среди толпы, но потом исчезла окончательно. Я очутился недалеко от трибуны.
Ближе пробраться было трудно. Стал прислушиваться. Ораторы сменялись часто. Запомнился мне один — невзрачный, плохо одетый, с виду такой же рабочий, какие сотнями попадались на сормовских улицах, не привлекая ничьего внимания. Он неловко сдернул сплющенную блином кепку, откашлялся и, напрягая надорванный и, как мне показалось, озлобленный голос, заговорил:
— Вы, товарищи, которые с паровозного, а также с вагонного, да многие и с нефтянки, знаете, что восемь годов я просидел на каторге как политический. И что ж — не успел я только вернуться, не успел свежим воздухом подышать, как бац — опять меня на два месяца в тюрьму! Кто запер? Заперли не полицейские старого режима, а Прихвостни нового. От царя было не обидно сидеть. От царя сроду наши сидели. А от прихвостней обидно! Генералы да офицеры понавесили красные банты, вроде как друзья революции. А нашего брата чуть что — опять пхают в кутузки. Травят нас и разгоняют. Я не за свою обиду говорю, товарищи, не за то, что два месяца лишних отсидел. Я за нашу, рабочую обиду говорю.
Тут он закашлялся. Отдышавшись, открыл было рот, опять закашлялся. Долго вздрагивал, вцепившись руками в перила, потом замотал головой и полез вниз.
— Доездили человека! — громко и негодующе сказал кто-то.
С серого, насупившегося неба посыпались крупинки первого снега. Срывая последние почерневшие листья, дул сухой холодный ветер. Ноги у меня захолодали. Я хотел выбраться из толпы, чтобы на ходу согреться. Проталкиваясь, я перестал было смотреть на ораторов, но вдруг знакомый высокий голос заставил меня повернуться к трибуне. Снежные крупинки засыпали глаза. Сбоку толкали. Кто-то больно наступил на ногу. Приподнявшись на носки, я с удивлением и радостью увидел на трибуне знакомое бородатое лицо Галки.
Двигая локтями, протискиваясь через плотную, с трудом пробиваемую толпу, я продвигался вперед. Я боялся, что, окончив говорить, Галка смешается с толпой, не услышит моего окрика, и я опять потеряю его. Я тряс фуражкой, чтобы привлечь его внимание, махал растопыренными пальцами. Но он не замечал меня.
Когда я увидел, что Галка уже поднял руку, уже повышает голос и вот-вот кончит говорить, я закричал громко:
— Семен Иванович… Семен Ивано-ви-и-ич!..
Сбоку на меня шикали. Кто-то пхнул меня в спину. А я еще отчаянней заорал:
— Семен Иванови-и-ич!
Я видел, как удивленный Галка неловко развел руками и, скомкав конец фразы, стал торопливо спускаться по лестнице.
Кто-то из обозленных соседей схватил меня за руку и потащил в сторону.
А я, не обращая внимания на ругательства и тычки, рассмеялся весело, как шальной.
— Ты что хулиганишь? — крепко встряхивая, строго спросил тащивший меня за руку рабочий.
— Я не хулиганю, — не переставая счастливо улыбаться, отвечал я, подпрыгивая на озябших ногах. — Я Галку нашел… Я Семена Ивановича…
Вероятно, было в моем лице что-то такое, от чего сердитый человек улыбнулся сам и спросил уже не очень сердито:
— Какую еще галку?
— Да не какую… Я Семена Ивановича… Вон он сам сюда пробирается.
Галка вынырнул, схватил меня за плечо:
— Ты откуда?
Толпа волновалась. Площадь неспокойно шумела. Кругом виднелись озлобленные, встревоженные и растерянные лица.
— Семен Иванович, — на ходу спросил я, не отвечая на его вопрос, — отчего народ шумит?
— Телеграмма пришла… Только что, — пояснил он скороговоркой. — Керенский предает революцию! Корнилов идет на Петроград.
Короткие осенние дни замелькали передо мною, как никогда не виданные станции, сверкающие огнями на пути скорого поезда. Сразу же нашлось и мне дело. И я оказался теперь полезным, втянутым в круговорот стремительно развертывавшихся событий.
В один из беспокойных дней Галка встревоженно сказал мне:
— Беги, Борис, в комитет. Скажи, что с Варихи срочно просили агитатора и я пошел туда. Найди Ершова, пусть он вместо меня сходит в типографию. Если Ершова не найдешь, то… Дай-ка карандаш… Вот снеси эту записку сам в типографию. Да не в контору, а передай лучше прямо в руки метранпажу! Помнишь… у Корчагина был, черный такой, в очках? Ну вот… Сделаешь все, тогда ко мне, на Вариху. Да если в комитете свежие листовки есть — захвати. Скажешь Павлу, что я просил… Стой, стой! — закричал он озабоченно вдогонку. — Холодно ведь. Ты бы хоть мой старый плащик накинул!
Но я уже с упоением и азартом, как кавалерийская лошадь, пущенная в карьер, несся, перепрыгивая через лужи и выбоины грязной мостовой.
В дверях партийного комитета, шумного, как вокзал перед отправлением поезда, я налетел на Корчагина. Если б это был не он, а кто-нибудь другой, поменьше и послабее, я, вероятно, сшиб бы его с ног. Об Корчагина же я ударился, как о телеграфный столб.