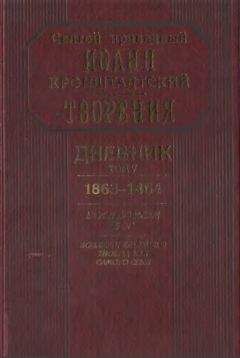— Живо! Живо!
Первый врач просто бушевал от нетерпения. Он накинул белый халат и попросил Рут, чтобы та завязала тесемки.
— Наденьте и на себя! — Он бросил ей халат. — Может, вы нам здесь понадобитесь. Вы сможете смотреть на кровь? Вам не станет плохо?
— Нет, — ответила Рут.
— Хорошо. Молодец!
— Может быть, я тоже могу чем-нибудь помочь? — спросил Керн. — Я изучал медицину, два семестра.
— Сейчас — нет, — врач посмотрел на инструменты. — Начнем.
Свет отражался в его лысине. Дверь была занавешена. Четверо мужчин понесли кровать с тихо стонущей женщиной через коридор в операционную. Глаза женщины были широко раскрыты. Бесцветные губы дрожали.
— Ну, беритесь! — командовал врач. — Приподнимите! Осторожно, черт возьми!
Женщина оказалась тяжелой. У Керна на лбу выступил пот. Его взгляд встретился со взглядом Рут. Она была спокойна, но побледнела и так изменилась, что он едва ее узнал. Сейчас она принадлежала этой женщине, истекающей кровью.
— Так, а теперь уходите все, кому здесь нечего делать! — резко сказал лысый врач. Он взял руку женщины. — Вам не будет больно. Это очень легко, — внезапно заговорил он материнским голосом.
— Ребенок должен жить — прошептала женщина.
— Оба, оба будете жить, — мягко ответил, врач.
— Ребенок…
— Мы его только немного повернем, плечиками вперед. Тогда он молнией выйдет. Только спокойно, совсем спокойно. Наркоз!
Керн, Марилл и еще несколько обитателей отеля стояли в опустевшей комнате женщины. Они ждали, когда могут понадобиться снова. Из соседней комнаты доносилось приглушенное бормотание врачей. На полу были разбросаны розовые и голубые вязаные распашонки.
— Роды, — сказал Марилл Керну. — Так бывает всегда, когда человек появляется на свет… Кровь, кровь и крик! Понимаете, Керн?
— Да.
— Нет, — сказал Марилл. — Не понимаете. Ни вы, ни я. Только женщина, только женщина может ронять это. Вы не чувствуете себя свиньей?
— Нет.
— Правда? А я чувствую. — Марилл протер очки и посмотрел на Керна. — Вы уже спали с женщиной? Нет? Если бы спали, вы бы тоже чувствовали себя свиньей. Здесь можно где-нибудь достать рюмку водки?
Из глубины комнаты появился кельнер.
— Принесите полбутылки коньяка, — сказал Марилл. — Да-да, у меня есть деньги. Тащите быстрее!
Кельнер исчез. За ним — хозяин и двое других. Керн и Марилл остались одни.
— Присядем к окну, — предложил Марилл. Он показал на заходящее солнце.
— Красиво, правда?
Керн кивнул.
— Да, — сказал Марилл. — Все рядом друг с другом. Это что — сирень, там внизу, в саду?
— Да.
— Сирень и эфир. Кровь и коньяк! Ну, прозит!
— Я принес четыре рюмки, господин Марилл, — сказал кельнер и поставил поднос на стол. — Я думал, может… — Он кивнул головой в сторону соседней комнаты.
— Хорошо, — Марилл наполнил две рюмки. — Вы пьете?
— Немного.
— Еврейский порок. Они все трезвенники. Зато они больше разбираются в женщинах. Но женщины не хотят, чтобы их понимали. Прозит!
— Прозит!
Керн выпил. После коньяка он почувствовал себя лучше.
— Это что, только преждевременные роды?
— Да. На четыре недели раньше. От перенапряжения. Поездки, пересадки, волнения, беготня и тому подобное, понимаете? В таком положении женщины не должны этого делать.
— А зачем она это делала?
Марилл снова наполнил рюмки.
— Зачем? — переспросил он. — Потому что хотела, чтобы ребенок был чехом. Потому что она не хотела, чтобы уже в школе на него плевали и обзывали вонючим жиденком.
— Я понимаю, — сказал Керн. — А ее муж не убежал вместе с ней?
— Мужа несколько лет назад посадили за решетку. И знаете — за что? За то, что у него было собственное дело, и потому, что он был усерднее и прилежнее, чем его конкурент на соседнем углу. Что тогда делает конкурент? Он идет в полицию и доносит на работягу: речи, направленные против правительства, руготня или коммунистические идеи. Что-нибудь. Затем мужа сажают за решетку, а конкурент забирает себе его клиентуру. Соображаете?
— Это мне знакомо, — сказал Керн.
Марилл выпил свой коньяк.
— Жестокий век. Мир завоевывается пушками и бомбардировщиками, человечность — концлагерями и погромами. Мы живем в такие времена, когда все перевернулось. Керн. Агрессоры считаются сейчас защитниками мира, а те, кого травят и гонят, — врагами мира. И есть целые народы, которые верят этому!
Через полчаса из соседней комнаты донесся пронзительный квакающий плач.
— Черт возьми! — сказал Марилл. — Они сделали свое дело. В мире стало одним чехом больше. Давайте поднимем бокалы по этому поводу! В честь великого таинства мира. Рождения! Вы знаете, почему оно — таинство? Потому что вслед за ним следует смерть. Прозит!
Открылась дверь. Вошел второй врач, весь в поту, обрызганный кровью. В руках он нес нечто красное, которое квакало и которое он хлопал по спинке.
— Живет, — пробормотал он. — Здесь есть что-нибудь?.. — Он схватил несколько платков. — В крайнем случае, сойдет. Фрейлейн!
Он передал ребенка и платки Рут.
— Выкупайте и запеленайте… не очень туго… старуха знает, как это делать. Хозяйка отеля. И уходите быстрее, здесь запах эфира. Все делайте в ванной.
Рут взяла ребенка. Ее глаза показались Керну в два раза больше, чем обычно. Врач уселся за стол.
— Найдется рюмка коньяку?
Марилл налил ему рюмку.
— Скажите, какое состояние бывает у врача, — спросил он, — когда он видит, что создаются бомбардировщики и пушки, а не больницы? Ведь первые предназначены только для того, чтобы заполнять вторые.
Врач поднял голову.
— Отвратительное, — ответил он, — отвратительное! Прекрасная задача — штопать людей, применяя все свое великое искусство с тем, чтобы их с величайшим варварством снова разрывали на куски. Почему их не убивать сразу, когда они еще дети? Это же много проще!
— Послушайте, любезнейший, — ответил депутат рейхстага Марилл. — Умерщвлять детей — это убийство. Умерщвлять взрослых — это дело национальной чести. В следующей войне будет участвовать много женщин и детей. Холеру мы искоренили, а ведь это — безобидное явление по сравнению с небольшой войной.
— Браун! — крикнул врач из соседней комнаты. — Быстро!
— Иду!
— Черт возьми! Кажется, не все гладко, — сказал Марилл.
Через некоторое время Браун вернулся. Щеки его ввалились.
— Разрыв в шейке матки, — сказал он, — Сделать ничего нельзя. Женщина истекает кровью.
— Ничего нельзя сделать?
— Ничего. Уже все перепробовали. Кровь продолжает идти.
— А вы не можете сделать переливание крови? — спросила Рут. Она стояла в дверях. — Вы можете взять мою.
Врач покачал головой.
— Не поможет, девочка. Если кровь не перестанет…
Он ушел. Дверь осталась открытой. Ее светлый четырехугольник казался призрачным. Все сидели молча. Тяжело передвигая ноги, вошел кельнер.
— Можно убрать?
— Нет.
— Хотите чего-нибудь выпить? — спросил Марилл Рут.
Она покачала головой.
— Все-таки выпейте немного. Будет лучше. — Он налил ей полрюмки.
Стало темно. Только на горизонте над крышами продолжали еще мерцать, зеленовато и оранжево, последние слабые отблески. В них, словно медная монета, плавала бледная луна, изъеденная пятнами. С улицы слышались голоса. Громкие, довольные и ничего не подозревающие голоса. Внезапно Керн вспомнил о словах Штайнера: «Если рядом с тобой кто-нибудь умирает, ты этого не чувствуешь. В этом несчастье мира. Сострадание — это не боль. Сострадание — это скрытое злорадство. Вздох облегчения, что это не ты и не тот, кого ты любишь». Он взглянул на Рут. Он уже не мог видеть ее лица.
Марилл прислушался.
— Что это?
В наступающем вечере послышался сочный, протяжный звук скрипки. Он затих, начал снова нарастать, поднялся вверх — победно и упрямо; потом заискрились рулады, все нежнее и нежнее, и, наконец, полилась мелодия — незатейливая и печальная, как утопающий вечер.
— Это здесь, в отеле, — сказал Марилл и посмотрел в окно. — Над нами, в четвертом этаже.
— Мне кажется, я знаю, кто это, — ответил Керн. — Это скрипач, которого я уже однажды слушал. Я не знал, что он тоже здесь живет.
— Это не обычный скрипач. Он играет слишком хорошо.
— Может, мне подняться и сказать ему, чтобы он перестал?
— Зачем?
Керн уже сделал движение, намереваясь выйти. Очки Марилла блеснули.
— Нет. Зачем? Быть печальным можно в любое время. А смерть окружает нас везде. Все это идет рядом друг с другом.
Они сидели и слушали. Прошло много времени, наконец из соседней комнаты вышел Браун.
— Все, — сказал он. — Она не очень страдала. Узнала только, что ребенок жив. Мы успели ей это сказать.