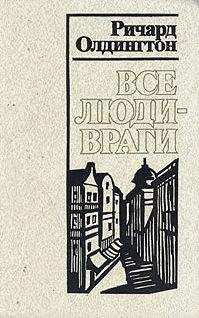— Я думаю, что вы можете обойтись и без посторонней помощи, — заявила Маргарит, и на этот раз Энтони уловил этот легкий оттенок ревности, который отнюдь не был ему неприятен. — Мне всегда казалось, что вы очень цельный, убежденный человек… И не пойдете ни на какие уступки.
— А зачем это нужно? Можно пойти на какие-то уступки, прежде чем вынести то или иное суждение, но если еще самому себе делать уступки, то очень скоро можно опуститься до посредственности. Посторонние люди помогают нам видеть себя со стороны, так же как мы чувствуем по-настоящему достоинства нашей страны только издалека, на чужбине. Я ощущаю себя здесь гораздо более англичанином, чем дома.
— Ну, мне кажется, вы уже немножко офранцузились, особенно с тех пор, как этот ваш новый знакомый заразил вас социализмом.
— А почему бы нет, Маргарит? Почему мне не поучиться у Робина? Почему мне не взять то, что может дать мне Франция? Неужели вы думаете, что это может изменить сущность моего «я»? Мы должны отдавать себя другим, если хотим что-нибудь получить от них. Справедливо ненавидеть то, что мы считаем дурным, но растем мы только с помощью того, что мы любим. Ненависть динамична, это меч божий.
Как могу я не ненавидеть грубого, злобного человека, если я знаю, что он угнетатель, что он всякими правдами и неправдами пробился к власти и пользуется этой властью, чтобы задушить всякую попытку сделать человеческую жизнь лучше и счастливее? Разве это социализм?
— Мне кажется, мы должны хотя бы стараться любить всех…
— Нет, нет! — перебил он горячо. — Мы можем относиться к людям хорошо, но это не значит любить. Любовь — это самое интимное, самое индивидуальное чувство. Это все равно, что цветок, который может быть отдан только кому-нибудь одному. Когда любишь, нужно отдавать всего себя и чувствовать, что тебя принимают, — а в любви принять все, может быть, еще труднее, чем все отдать. Мы знаем, что даем, но не знаем, что получим.
— Вы ужасно требовательны! — сказала она с принужденной улыбкой.
Они поднялись на откос и теперь шли узкой тропинкой в густой низкорослой чаще казавшейся бледной под тенью огромных деревьев, возвышавшихся на гребне холма. Энтони взял Маргарит за руку, и они остановились друг против друга на заросшей травой тропинке. И опять Энтони охватило странное чувство, словно он подчинялся какой-то посторонней силе, словно кто-то диктовал ему его слова и поступки.
Глаза его были устремлены на лицо Маргарит, и он скорее чувствовал, чем видел, блики света среди листвы, колебавшейся от легкого ветерка, и стаю воробьев, пролетавшую с пронзительным чириканьем вдоль длинной узкой дорожки.
— Маргарит! Я сейчас говорил вообще, но я знаю, что слова мои, в сущности, предназначались для вас. Маргарит, я никогда не ухаживал за вами, я просто любил и люблю вас. Я не заглядываю вперед. Я не могу и не хочу давать никаких обещаний.
Что значат слова? Я знаю только одно, сейчас я живу вами и только для вас.
Она не ответила, и Тони, сам не зная, как это случилось, обнял ее и прильнул губами к ее нежным губам, бессвязно шепча какие-то слова, которые даже в ту минуту казались ему бессмысленными, ничего не говорящими и в то же время единственно нужными. Но уже в следующее мгновение сознание его потонуло в ощущении бесконечного блаженства, не того солнечного золотого потока, который подхватывал его с Эвелин, но какого-то радужного восторга, в котором прикосновение терялось в смутном, непостижимом томлении. Он держал в объятиях не женщину, а любовь, не прелестное тело, а идеальную страсть. Когда-то он закрывал глаза, чтобы глубже почувствовать чудесное прикосновение Эвелин, теперь он закрывал их, чтобы уловить мечту, не подозревая, что в этой погоне за невозможным он упускает настоящее.
Маргарит первая заметила вдалеке приближающегося сторожа. Оторвавшись друг от друга, они молча пошли дальше. Маргарит пригладила волосы, приподняв шляпу, и поправила слегка измявшийся воротничок. Она раскраснелась, но казалась Тони удивительно хладнокровной и как будто крепко закованной в непроницаемую броню природного женского лицемерия. Можно было поклясться, что даже мысль о поцелуях и страстных словах не коснулась этой девической скромности. Он почти сомневался в собственных ощущениях, подсказывавших ему, что она не только принимала его поцелуи, но и возвращала их, не только слушала его бессвязный лепет, но и отвечала на него. Щеки его все еще пылали, сердце неистово билось, и все тело дрожало, когда они прошли мимо сторожа — он молча, Маргарит со спокойным «Bonjour» [41] в ответ на: «Bonjour, 'sieur, 'dame!» [42].
Неужели она совсем не взволнована? Как только сторож исчез из виду, он снова поцеловал ее и осторожно прижал руку к ее сердцу. Оно билось часто, часто, так же, как и его собственное.
Энтони расстался с Маргарит у дверей ее отеля, не взяв с нее никаких обещаний, кроме того, что она постарается встретиться с ним на следующий день, чтобы поговорить обо всем. Никто из них, собственно, не знал, о чем именно им надо поговорить, но предполагалось, что если молодой человек и молодая девушка совершили невероятный, единственный в своем роде поступок — самозабвенно целовались в парке Сен-Клу, — значит, создалось положение, которое необходимо обсудить. Быть может, это благодатный дар свыше — способность влюбленных принимать себя всерьез, ибо никому другому этого и в голову не приходит.
Простившись с Маргарит, Энтони зашел в кафе и написал коротенькую записку Робину, извиняясь, что он не может с ним сегодня обедать, и занес записку к нему в отель. Затем он отправился бродить по улицам, удивляясь, как это можно чувствовать себя таким счастливым и как могут люди сердиться и быть чем-нибудь недовольны. Ему было очень жаль всех, и он сознавал, что не должен злоупотреблять тем, что он так неожиданно возвысился, сделавшись обладателем столь неисчерпаемого сокровища. Он подал нищему непомерно крупную милостыню, не подозревая, что тот поблагодарил его, бормоча себе под нос: «Вот олухи эти англичанишки, ну и олухи!» Звезды выступили на потускневшем небе, наполовину исчезая в зареве ярко освещенного города. Что могло быть прекраснее поздних сумерек в Париже с невидимой Маргарит рядом!
Ночью Энтони в полузабытьи снова и снова переживал, как какой-то долгий дивный сон, впечатления сегодняшнего дня и неясное, но сладостное предвкушение бесконечного множества грядущих дней, которые все будут, как этот, или еще чудеснее.
Из этого блаженного состояния его вывела сухопарая горничная, которая принесла ему кофе и большой круглый таз для умывания. Отпивая маленькими глотками кофе, он спрашивал себя, как сможет выдержать такое счастье, и в то же время думал, как проживет эти бесконечные часы до встречи с Маргарит. В дверь постучали, и горничная подала ему маленький сложенный вчетверо голубой бланк-телеграмму. Что это — привет от Маргарит, или она не может встретиться с ним сегодня днем? Он неумело разорвал телеграмму и прочел: «Мать тяжело пострадала катастрофе с экипажем, возвращайся немедленно Отец».
Обратное путешествие в Англию сопровождалось предчувствием неведомого несчастья. Оно было невыносимо тягостно и казалось бесконечным. Так как Энтони не медлил ни секунды, ему удалось попасть утренним поездом на первый отходивший пароход, и он даже успел дать телеграммы Маргарит и Робину. Он прекрасно понимал, что отец никогда не послал бы такой категорической телеграммы, если бы не было опасности и опасности такой, о которой он боялся даже думать. Он удивлялся своему спокойствию; было такое ощущение, точно он находится в сером безвоздушном пространстве и жизнь в нем вдруг сразу остановилась. Даже Маргарит казалась невероятно далекой. В Фолкстоне ему пришлось ждать местного поезда, который останавливался на каждой станции, затем часа полтора слоняться по платформе маленького разъезда и, наконец, ехать на лошадях семь миль до Вайн-Хауза.
После потрясения, которое он пережил, получив телеграмму, сердце его первый раз больно сжалось, когда он увидел, что дом погружен в темноту и никто не подошел отпереть парадную дверь, хотя стук колес был слышен в любой из передних комнат. Он расплатился с извозчиком и пошел кругом к черному ходу. В кухне тоже было темно; свет горел только в комнатах прислуги и в рабочем кабинете отца. Энтони с минуту постоял не двигаясь, чувствуя слабость и дурноту от тяжелого предчувствия, от усталости и голода, и в то же время его не покидало ощущение серости и отрешенности, как будто все это происходило с кем-то другим.
Он постучал тихонько, потом громче. Знакомый голос спросил испуганно:
— Кто там?
— Энтони. Впустите меня скорей, Мери.
Тот же голос в смятении крикнул:
— Джен, Джен! Мистер Энтони приехал! Боже, боже мой!
— Тише! — сердито сказал Энтони через дверь. — Впустите меня скорей и не шумите так.