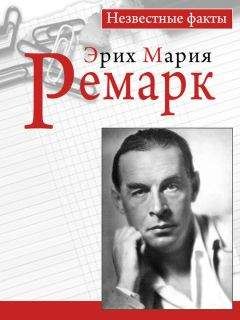Равик поднялся по лестнице.
— В чем дело? — спросил он.
Хозяйка была сильной женщиной с могучим бюстом и маленькой головкой с короткими черными кудряшками.
— Испанцы уехали, — ответила она.
— Знаю. Но зачем же так поздно убирать комнаты?
— К утру понадобятся.
— Новые немецкие эмигранты?
— Нет, испанцы.
— Испанцы? — переспросил Равик, не сразу поняв, что она имеет в виду. — Как же так? Ведь они только что уехали.
Хозяйка посмотрела на него черными блестящими глазами и улыбнулась. В ее улыбке отразилось простецкое знание жизни и бесхитростная ирония.
— Зато другие возвращаются, — сказала она.
— Какие другие?
— Ну, их противники, разумеется. Так ведь всегда бывает. — Хозяйка крикнула что-то горничной, убиравшей комнату. — У нас старый отель, — произнесла она не без гордости. — И наши гости охотно приезжают обратно. Они уже дожидаются своих прежних комнат.
— Уже дожидаются? — удивился Равик. — Кто дожидается?
— Господа из враждебного лагеря. Многие из них уже жили здесь. С тех пор прошло немало времени, и кое-кого, конечно, убили. Но остальные находились в Биаррице и в Сен-Жан-де-Люз, дожидаясь, пока освободятся комнаты.
— Разве они уже были у вас?
— Но, мсье Равик, помилуйте! — Хозяйка удивилась такой непонятливости.
— Конечно, были. При диктаторе Примо де Ривера. Тогда им пришлось бежать, и они жили у нас. Когда Испания стала республиканской, они вернулись домой, а сюда прибыли монархисты и фашисты. Теперь их у нас почти нет. Уехали, а республиканцы снова приезжают. Разумеется, те, кто уцелел.
— Верно. Об этом я не подумал.
Хозяйка заглянула в одну из комнат. Над кроватью висела цветная литография с изображением короля Альфонса.
— Жанна, сними его! — крикнула хозяйка.
Горничная принесла портрет.
— Так. Поставь сюда.
Хозяйка прислонила портрет к стене и пошла дальше. В следующем номере висел портрет генерала Франко.
— Этого тоже. Поставь рядом с Альфонсом.
— А почему, собственно, испанцы, уезжая, не взяли портреты с собой? — спросил Равик.
— Когда эмигранты возвращаются на родину, они редко берут с собой портреты, — объяснила хозяйка. — На чужбине эти портреты утешают. А когда возвращаешься, они уже не нужны. Возить с собой громоздкие рамы неудобно, да и стекло легко бьется. Портреты почти всегда остаются в отелях.
Она прислонила к стене в коридоре еще два портрета жирного генералиссимуса, еще одного Альфонса и небольшой портрет генерала Кейпо де Льяно.
— Святых трогать не надо, — решила она, заметив на стене красочную репродукцию Мадонны. — Святые держат нейтралитет.
— Не всегда, — сказал Равик.
— В тяжелые времена у Бога всегда есть какой-то шанс. Не раз я уже видела здесь атеистов за молитвой. — Энергичным жестом хозяйка поправила свою левую грудь. — А вам разве не приходилось молиться, когда вас брали за горло?
— Конечно. Но я ведь не атеист. Я просто маловерующий.
Появился коридорный с целой охапкой портретов.
— Хотите переменить декорации? — спросил Равик.
— А как же? В нашем деле требуется большой такт. Иначе никак не завоюешь добрую славу. Особенно если имеешь дело с такими клиентами, как наши; они, откровенно говоря, крайне щепетильны в таких вопросах. Кому понравится, если со стены на тебя гордо взирает намалеванный яркими красками смертельный враг, да еще в золотой рамке? Разве я не права?
— Стопроцентно.
Хозяйка обратилась к коридорному:
— Адольф, поставь портреты сюда. Или лучше к стене, там светлее, пусть стоят рядышком, чтобы их было хорошо видно.
Коридорный пробурчал что-то себе под нос и занялся подготовкой экспозиции.
— А сейчас что вы развесите в комнатах? — не без интереса спросил Равик. — Оленей, пейзажи, извержение Везувия и все такое прочее?
— Только если не хватит старых портретов.
— Каких старых?
— Тех, что висели тут раньше. Эти мсье оставили их здесь, когда пришли к власти и вернулись на родину. Вот посмотрите.
Она указала на левую стену коридора, где уже были расставлены новые портреты. Они выстроились в ряд — как раз напротив тех, что вынесли из комнат. Здесь были два портрета Маркса, три портрета Ленина, из которых один был наполовину заклеен бумагой, несколько небольших, вставленных в рамку портретов Негрина и других руководителей республиканской Испании, портрет Троцкого. Эти портреты были скромны, не бросались в глаза, не блистали красками, орденами и эмблемами, как все эти помпезные альфонсы, франко и примо де ривера, стоявшие визави вдоль правой стены. Два мира молча уставились друг на друга в тускло освещенном коридоре, а между ними прохаживалась хозяйка французского отеля, наделенная тактом, опытом и иронической мудростью галльской расы.
— Когда эти мсье съехали, я все припрятала, — сказала она. — В настоящее время правительства держатся недолго. Как видите, я не ошиблась, — вот они и пригодились. В нашем деле нужна дальновидность.
Она распорядилась, как развесить портреты. Троцкого отправила обратно в подвал. Троцкий не внушал ей никакого доверия. Равик осмотрел заклеенный наполовину портрет. Отодрав бумагу, он обнаружил улыбающегося Троцкого. Очевидно, репродукцию заклеил сторонник Сталина.
— Вот, — сказал Равик. — Снова Троцкий, замаскированный. Снято еще в добрые старые времена.
Хозяйка повертела в руках репродукцию.
— Можно выбросить. Не имеет никакой цены. Одна половина непрерывно оскорбляет другую. — Она передала репродукцию слуге. — А рамку оставь, Адольф. Она из добротного дуба.
— Что же вы намерены делать с остальными? — спросил Равик. — С альфонсами и франко?
— Отправим в подвал. А вдруг опять понадобятся.
— У вас не подвал, а чудо. Временный пантеон. Там есть еще какие-нибудь портреты?
— О, разумеется! Есть еще русские — несколько портретов Ленина, в картонных рамках, ведь надо же что-то иметь про запас… И еще есть портреты последнего царя. Остались от русских эмигрантов, которые умерли в моем отеле. Есть даже великолепный оригинал, написанный маслом и оправленный в тяжелую золоченую раму. Его привез один мсье. Потом он покончил жизнь самоубийством. Есть также итальянцы. Два Гарибальди, три короля и слегка подпорченный Муссолини на газетной бумаге. Еще тех времен, когда он был социалистом и жил в Цюрихе. Интересен как уникальный экземпляр. А так его все равно никто не хочет вешать на стенку!
— А немцы у вас есть?
— Есть несколько портретов Маркса, их больше всего. Затем Лассаль, Бебель… Групповой снимок — Эберт, Шейдеман, Носке и другие. Носке кто-то замазал чернилами. Мне сказали, что он стал нацистом.
— Правильно. Можете повесить его вместе с социалистом Муссолини. А из других немцев никого нет?
— Как же! Один Гинденбург, один кайзер Вильгельм, один Бисмарк и… — хозяйка улыбнулась, — даже Гитлер в плаще… Так что мы совсем неплохо укомплектованы.
— Как? — удивился Равик. — Гитлер? Откуда он у вас?
— Его оставил какой-то гомосексуалист. По имени Пуци. Приехал сюда в 1934 году, когда в Германии убили Рема и остальных. Все время чего-то боялся и без конца молился. Потом его увез какой-то богатый аргентинец. Хотите взглянуть на Гитлера? Он в подвале.
— Не сейчас и не в подвале. Предпочитаю посмотреть на него, когда все ваши комнаты будут увешаны портретами в том же духе.
Хозяйка пристально взглянула на него.
— Ах вот что! Вы хотите сказать, когда нацисты прибудут сюда как эмигранты?
У «Шехерезады» стоял Борис Морозов в расшитой золотом ливрее. Он открыл дверцу такси. Из машины вышел Равик. Морозов ухмыльнулся.
— А мне показалось, ты решил больше здесь не бывать.
— Я и не хотел.
— Это я его заставила, Борис. — Кэт обняла Морозова. — Слава Богу, я опять с вами!
— У вас русская душа, Катя. Одному Богу известно, почему вам суждено было родиться в Бостоне. Проходи, Равик. — Морозов распахнул входную дверь.
— Человек велик в своих замыслах, но немощен в их осуществлении. В этом и его беда, и его обаяние.
«Шехерезада» была отделана под восточный шатер. Русские кельнеры в красных черкесках, оркестр из русских и румынских цыган. Посетители сидели на диване, тянувшемся вдоль всей стены. Рядом стояли круглые столики со стеклянными плитами, освещаемыми снизу. В зале царил полумрак и было довольно людно.
— Что вы будете пить, Кэт? — спросил Равик.
— Водку. И пусть играют цыгане. Хватит с меня «Сказок Венского леса» в ритме военного марша. — Она скинула туфли и забралась с ногами на диван. — Усталость уже прошла, Равик, — сказала она. — Несколько часов в Париже — и я совсем другая. Но меня все еще не покидает ощущение, будто я бежала из концлагеря. Представляете себе?