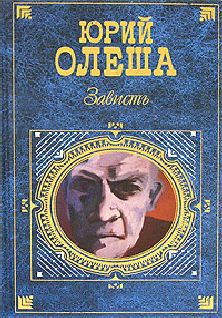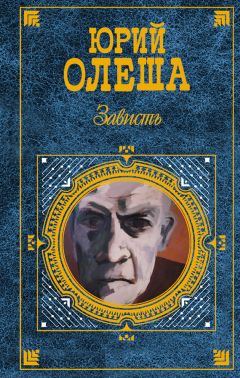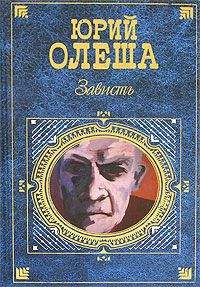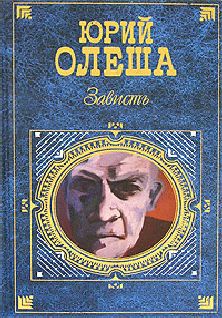Кавалеров подтвердил:
- Я нахожусь в самом нормальном состоянии.
И был забор, дощатый невысокий заборчик.
- Она там,- сказал Иван.- Обождите. Присядем.
Вот сюда, над овражком. Я говорю вам: моей мечтой была машина машин, универсальная машина. Думал я о совершенном орудии, надеялся я в одном небольшом аппарате сконцентрировать сотни различных функций. Да, мой друг. Прекрасная, благородная задача. Ради этого стоило стать фанатиком: у меня была мысль укротить мастодонта техники, сделать его ручным, домашним… Дать человеку такой рычажок, простой, знакомый, который не испугал бы его, был бы привычным, как дверная задвижка…
- Я ничего не понимаю в механике,- молвил Кавалеров,- я боюсь машин…
- И мне удалось. Слушайте меня, Кавалеров. Я изобрел такую машину.
(Забор манил, и, однако, вероятнейше допускалось, что никакой тайны нет за серыми обычными досками.)
- Она может взрывать горы. Она может летать. Она поднимает тяжести. Она дробит руду. Она заменяет кухонную плиту, детскую коляску, дальнобойное орудие… Это сам гений механики…
- Отчего вы улыбаетесь, Иван Петрович?
(Иван поигрывал уголком глаза.)
- Я цвету. Я не могу говорить о ней без того, чтобы сердце мое не прыгало, как яйцо в кипятке. Слушайте меня. Я наделил ее сотней умений. Я изобрел машину, которая умеет делать все. Понимаете ли вы? Сейчас вы увидите, но…
Он встал и, положив ладонь на плечо Кавалерова, торжественно сказал:
- Но я запретил ей. В один прекрасный день я понял, что мне дана сверхъестественная возможность отомстить за свою эпоху… Я развратил машину. Нарочно. Назло.
Он рассмеялся счастливым смехом.
- Нет, вы поймите, Кавалеров, какое великое удовлетворение, Величайшее создание техники я наделил пошлейшими человеческими чувствами! Я опозорил машину. Я отомстил за мой век, давший мне тот мозг, который лежит в моем черепе, мой мозг, придумавший удивительную машину… Кому ее оставить? Новому миру? Они жрут нас, как пищу,- девятнадцатый век втягивают они в себя, как втягивает кролика… Жуют и переваривают. Что на пользу - то впитывают, что вредит - выбрасывают… Наши чувства выбрасывают они, нашу технику - впитывают! Я мщу за наши чувства. Они не получат моей машины, не используют меня, не впитают моего мозга… Моя машина могла бы осчастливить новый век, сразу, с первых же дней, ввести в расцвет техники. Но вот - они не получат ее! Машина моя - это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся. У них слюнки потекут, когда они увидят ее. Машина - подумайте - идол их, машина… и вдруг… И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой! Идемте… я покажу вам… Она, умеющая делать все,- она поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, и старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны… Я сделал это. Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. И я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния,- имя Офелии… Самое человеческое, самое трогательное…
Иван повлек Кавалерова за собой.
Иван приник к щелке, выставив на Кавалерова лоснившийся медный зад,- ни дать, ни взять две гири. Быть может, действительно влияла жара, непривычная захолустная пустота, новизна ландшафта, неожиданного для Москвы, быть может, действительно сказывалась усталость, но только Кавалеров, оставшись один в безлюдье и отдаленности от узаконенных городских шумов, поддался кое-какому миражу, кое-какой слуховой галлюцинации. Как будто послышался голос Ивана, разговаривавшего с кем-то через щелку. Затем Иван отпрянул. И то же сделал Кавалеров, хотя и стоял на порядочном расстоянии от Ивана,как если бы испуг прятался где-то в противоположных деревьях и держал обоих на одной нитке, которую и дернул.
- Кто свистит? - звенящим от страха голосом закричал Кавалеров.
Пронзительный свист пролетел над окрестностью. Кавалеров на миг отвернулся, пряча лицо ладонями, как отворачиваются на сквозняке. Иван бежал от забора на Кавалерова - будто сея шажки,- свист летел за ним, как будто Иван не бежал, а скользил, нанизанный на ослепительный свистовой луч.
- Я боюсь ееl Я боюсь ее! - услышал Кавалеров задыхающийся шепот Ивана.
Схватившись за руки, они побежали вниз, сопровождаемые проклятиями встревоженного бродяги, которого сперва с высоты приняли за брошенную кем-то старую сбрую…
Бродяга, вырванный охапкой из сна, сидел на кочке, шаря в траве,- искал камень. Они скрылись в уличку.
- Я боюсь ее,- быстро говорил Иван.- Она ненавидит меня… Она изменила мне… Она убьет меня…
Кавалеров, пришедши в себя, устыдился своего малодушия. Он вспомнил, что тогда же, когда увидел он обратившегося в бегство Ивана, еще нечто предстало его зрению, чего испуганный, он не успел запечатлеть.
- Слушайте,- сказал он,- какая чепуха! Просто мальчик свистел в два пальца. Я видел. Мальчик появился на заборе и свистел… Ну да, мальчик…
- Я же говорил вам,- улыбнулся Иван,- я же говорил, что вы начнете искать всяких объяснений. Я же просил вас: ущипните себя побольнее.
Произошла ссора. Иван свернул в обретенную с трудом пивную. Он не приглашал Кавалерова. Тот поплелся, не зная пути, выискивая слухом трамвайный звон. Но на ближайшем углу, топнув ногой, Кавалеров повернул в пивную. Иван встретил его улыбкой и ладонью, направленной к стулу.
- Ну скажите же,- взмолился Кавалеров.- Ну ответьте мне, для чего вы мучите меня? Зачем вы обманываете нас? Ведь нет же никандр машины! Не может же быть такой машины! Это ложь и бред! Зачем вы врете нам?
В изнеможении Кавалеров опустился на стул.
- Послушайте, Кавалеров. Закажите себе пива, и я расскажу вам сказку. Слушайте.
Сказка о встрече двух братьев
…Нежный, растущий остов "Четвертака" окружали леса.
Леса как леса: балки, ярусы, лестницы, ходы, переходы; навесы,- но разные были в толпе, собравшейся у подножия, характеры и глаза. Разным сходством улыбались люди. Одни были склонны к простоте и говорили: постройка заштрихована. Некто заметил:
- Деревянным сооружениям не положено расти слишком высоко. Глаз не уважает высоко вознесшихся досок. Леса уменьшают величие постройки. Самая высокая мачта кажется легко подверженной гибели. Такая громада дерева нежна, несмотря ни на что. Сразу напрашивается мысль о пожаре.
Другой воскликнул:
- А с другой стороны - смотрите! - брусья вытянулись, как струны. Гитара, прямо-таки гитара!
На что предыдущий заметил:
- Ну вот, я ж говорил о нежности дерева. Удел его служить музыке.
Тогда вмешался чей-то насмешливый голос:
- А медь? Я, на-пример, признаю только духовые инструменты,
Школьник узнал в расположении досок не замеченную никем арифметику, но определить, к чему относятся кресты умножения и куда ведут знаки равенства, он не успел: сходство мгновенно исчезло, оно было шаткое.
"Осада Трои,- подумал поэт.- Осадные башни".
И сравнение подкрепилось появлением музыкантов. Прикрываясь трубами, они поползли в деревянную какую-то траншею, к подножию постройки.
Был черен вечер, белы и шаровидны фонари, необычайно алели полотнища, провалы под деревянными сходнями были смертельно черны. Раскачивались, звеня проволоками, фонари. Тень как бы взмахивала бровями. Вокруг фонарей летала и гибла мошкара. Издалека, заставляя мигать попутные окна, неслись сорванные фонарями контуры окрестных домов и кидались на постройку,и.тогда (до тех пор пока не успокаивался раскаченный ветром фонарь) бурно оживали леса, все приходило в движение - и, как многоярусный парусник, плыла на толпу постройка.
К подножию постройки прошел по дереву и на дерево Андрей Бабичев. Сама собой строилась там трибуна. Оратор получал и лестницу, и помост, и поручень, и ослепительный черный фон позади себя, и примо на себя - свет. Так много было дано света, что и далекие наблюдатели видели уровень воды в графине на столе президиума.
Бабичев двигался над толпой, очень цветной и блестящей, вроде как жестяной, похожий на электрическую фигурку. Он должен был произнести речь. Внизу, в естественно образовавшемся прикрытии, готовились к представлению актеры. Сладко, невидимый и непонятный толпе, завывал гобой. И непонятен был ставший серебряным от резкости освещения диск барабана, повернутого на толпу лицом. В деревянном ущелье украшались актеры. Каждый шаг проходящего наверху двигал над ними доски и сеял туманом опилки.
Появление на трибуне Бабичева развеселило публику. Его приняли за конферансье. Он был слишком свеж, умышлен, театрален по внешности.
- Толстый! Вот так толстый1 - восхитился в толпе один.
- Браво! - заорали в разных местах.