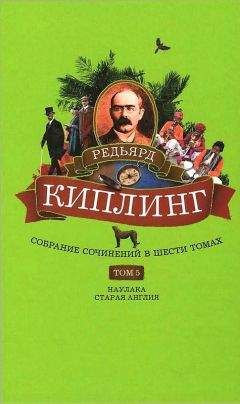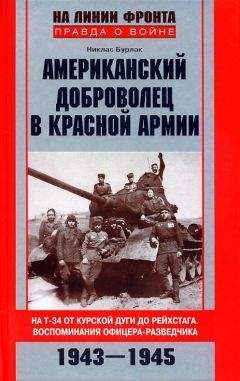Он мог сколько угодно расхаживать по королевским садам, где бесчисленные и очень плохо оплачиваемые садовники боролись со все уничтожающей жарой, вертя колеса колодца и наполняя кожаные мешки водой. Его радушно встречали в конюшнях магараджи, где на ночь клали подстилку для восьмисот лошадей; по утрам ему разрешалось смотреть, как их выводили по четыреста за раз для того, чтобы гонять в манеже. Он мог приходить и уходить, разгуливать по наружным дворам дворца, смотреть, как наряжали слонов, когда магараджа отправлялся при полном параде, смеяться со стражей и выкатывать артиллерийские орудия с головами драконов, со змеиными шеями, изобретенные местными артиллеристами, которые здесь, на Востоке, мечтали о митральезах. Но Кэт могла ходить туда, куда ему был запрещен вход. Он знал, что жизнь белой женщины в Раторе в безопасности, как и в Топазе; но в первый же день, когда она исчезла, спокойная, молчаливая, в темноте задернутой занавесом двери, которая вела в помещения дворцовых женщин, он почувствовал, как рука его невольно потянулась к револьверу.
Магараджа был превосходный друг и недурно играл в пачиси; но Тарвин, сидя, полчаса спустя, против него, думал, что не посоветовал бы магарадже застраховывать свою жизнь, если бы с его, Тарвина, возлюбленной случилось что-нибудь в то время, как она оставалась в этих таинственных комнатах, единственным признаком жизни в которых были постоянные перешептывания и шорох. Когда Кэт вышла с маленьким магараджем Кунваром, повисшим на ее руке, лицо ее побледнело и как бы вытянулось, а глаза наполнились слезами от негодования. Она все видела…
Тарвин бросился к ней, но она остановила его повелительным жестом, свойственным женщинам в серьезные минуты, и полетела к миссис Эстес.
В это мгновение Тарвин почувствовал, что он грубо вытолкнут из ее жизни. Магарадж Кунвар застал его в этот вечер расхаживавшим по веранде постоялого двора в огорчении, что он не застрелил магараджу за выражение, появившееся в глазах Кэт. Глубоко вздохнув, он возблагодарил Бога, что находится тут для наблюдения за ней и для ее защиты. А если понадобится, он увезет ее силой. С дрожью представил он себе ее здесь одинокой; миссис Эстес только издали могла заботиться о ней.
— Я привез это для Кэт, — сказал ребенок, осторожно выходя из экипажа со свертком, который он держал обеими руками. — Поедем со мной.
Тарвин охотно отправился с ним, и они поехали к дому миссионера.
— Все люди в моем дворце, — по дороге сказал ребенок, — говорят, что она ваша Кэт.
— Я рад, что они знают это, — свирепо пробормотал про себя Тарвин. — Что это у вас для нее? — громко спросил он, кладя руку на сверток.
— Это от моей матери, королевы, знаете, настоящей королевы, потому что я принц. Есть еще поручение, о котором я не должен говорить.
Чтобы запомнить его, он стал по-детски шептать про себя. Кэт была на веранде, когда они подъехали, и лицо ее немного прояснилось при виде ребенка.
— Скажите моему караулу, чтобы он остался за садом. Идите и подождите на дороге.
Экипаж и солдаты удалились. Ребенок, продолжая держать Тарвина за руку, подал сверток Кэт.
— Это от моей матери, — сказал он. — Вы видели ее. Этот человек не должен уходить. Он, — ребенок запнулся немного, — по душе вам, не правда ли? Ваша речь — его речь.
Кэт вспыхнула, но не попробовала вразумить его. Что могла она сказать?
— А я должен вам сказать, — продолжал он, — прежде всего вот что, и так, чтобы вы хорошенько поняли. — Он говорил запинаясь, переводя со своего языка. Он вытянулся во весь свой рост и откинул со лба изумрудную кисть. — Моя мать, королева, настоящая королева, говорит: «Я просидела три месяца за этой работой. Она для вас, потому что я видела ваше лицо. То, что было сделано, может быть распущено против нашей воли, рука цыганки всегда хватает что-нибудь. Из любви к богам посмотрите, чтобы цыганка не распустила ничего, сделанного мною, потому что это моя жизнь и душа. Защитите мое дело, переданное вам от меня, ткань, в продолжение девяти лет бывшую на станке». Я знаю по-английски лучше, чем моя мать, — сказал ребенок, переходя к своей обычной речи.
Кэт открыла сверток и развернула вязаный шарф из грубой шерсти, желтый с черным, с ярко-красной бахромой. Такими работами привыкли услаждать свои досуги государыни Гокраль-Ситаруна.
— Это все, — сказал ребенок. Но ему, казалось, не хотелось уходить. У Кэт перехватило дыхание, когда она взяла жалкий подарок. Ребенок, не выпуская руки Тарвина, снова начал передавать поручение матери, слово за словом; его пальчики, по мере того как он говорил, все сильнее и сильнее сжимали руку Тарвина.
— Скажите, что я очень благодарна, — сказала Кэт несколько смущенно и неуверенным голосом.
— Это не ответ, — сказал ребенок и умоляюще взглянул на своего высокого друга, «нового» англичанина.
Пустая болтовня странствующих коммивояжеров на веранде постоялого двора вдруг пришла на ум Тарвину. Он быстро шагнул вперед, положил руку на плечо Кэт и шепнул хриплым голосом:
— Разве вы не понимаете? Мальчик — это ткань, в продолжении девяти лет бывшая на станке.
— Но что я могу сделать? — вскрикнула пораженная Кэт.
— Следить за ним. Продолжать следить за ним. Вы достаточно сообразительны во многих отношениях. Ситабхаи нужна его жизнь. Смотрите, чтобы она не взяла ее.
Кэт начала немного понимать. В этом ужасном дворце возможно все, даже убийство ребенка. Она уже отгадала ненависть, существовавшую между бездетными женами и теми, которые имели детей. Магарадж Кунвар стоял неподвижно, блестя в сумерках своей покрытой драгоценностями одеждой.
— Сказать еще раз? — спросил он.
— Нет, нет, нет, дитя!.. Нет, — крикнула она, бросаясь на колени перед ним и прижимая к груди его маленькую фигурку во внезапном порыве нежности и сожаления, — О, Ник, что нам делать в этой ужасной стране? — Она заплакала.
— А! — сказал магарадж, которого совершенно не тронули слезы Кэт. — Мне сказано, чтобы я ушел, когда увижу, что вы плачете. — Он крикнул, появился экипаж и солдаты, и он уехал, оставив на полу жалкий шарф.
Кэт рыдала в полутьме. Ни миссис Эстес, ни ее мужа не было дома. Слово «нам», произнесенное Кэт с выражением нежности и экстаза, пронзило душу Тарвина. Он наклонился, заключил ее в свои объятия, и Кэт не отругала его за то, что последовало за этим.
— Как-нибудь справимся, девочка, — шепнул он на ухо склонившейся на его плечо головке.
«Дорогой друг. Это было очень нехорошо с вашей стороны, и вы сделали мою жизнь тяжелее. Я знаю, я была слаба. Ребенок расстроил меня. Но я должна делать то, ради чего приехала, и вы должны поддерживать меня, а не мешать мне, Ник. Пожалуйста, не приходите несколько дней. Я должна — или надеюсь — отдаться вся открывающемуся передо мной делу. Я думаю, что действительно могу сделать кое-что хорошее. Дайте же мне сделать это, пожалуйста.
Сэт».
Из этого письма, полученного на следующее утро, Тарвин вывел пятьдесят различных заключений и снова прочел его. В конце своих раздумий он убедился только в одном, что, несмотря на минутную слабость, Кэт решила идти по избранному ею пути. Он ничего не мог поделать против ее кроткой настойчивости, пожалуй, лучше было и не пробовать. Разговоры на веранде, ожидания ее, когда она шла во дворец, — все это было приятно, но он приехал в Ратор не для того, чтобы говорить ей о своей любви. Топаз, будущности которого принадлежала другая половина души Тарвина, давно знал этот секрет и — Топаз ожидал проведения «Трех С.» так же, как ожидал Тарвин появления Кэт на ее пути во дворец и обратно. Девушка была в отчаянии, несчастна, переутомлена, но он постоянно благодарил Бога за это, — так как он был вблизи и мог оградить ее от удара злой судьбы, то он решил оставить ее на время на руках миссис Эстес, которая могла успокоить ее и посочувствовать ей.
Ей уже удалось сделать кое-что в недоступных женских дворцовых помещениях, раз мать магараджа Кунвара вверила ей жизнь своего единственного сына (кто мог не полюбить Кэт и не довериться ей?), а он сам? Что он сделал для Топаза — тут он взглянул в сторону города, — кроме того, что играл в пачиси с магараджей? В лучах низко стоявшего утреннего солнца постоялый двор отбрасывал тень. Странствующие приказчики выходили один за другим, смотрели на обнесенный стенами Ратор и проклинали его. Тарвин сел на свою лошадь — о которой будет речь впереди — и направился к городу приветствовать магараджу. Только через него Тарвин мог достать Наулаку; он усердно изучал магараджу, зорко присматривался к положению дел, и теперь ему казалось, что он придумал план, благодаря которому надеялся твердо упрочить свое положение при магарадже. Поможет ли этот план добыть Наулаку или нет, он, во всяком случае, даст ему возможность остаться в Раторе. Последние ясные намеки полковника Нолана, по-видимому, угрожали этому плану, и Тарвин понимал, что ему необходимо иметь какое-нибудь дело, легко объяснявшее причины его частых посещений дворца, хотя бы для этого пришлось перевернуть все государство. Чтобы остаться, следовало сделать что-нибудь необычайное.