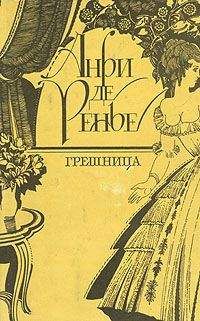В мои думы о госпоже де Гриньи, которым я охотно предавался и которые имели характер почтительного восхищения, начали закрадываться и другие помыслы, для меня самого не совсем ясные, но беспокоившие меня. Они приходили внезапно, помимо воли, и я не мог ни предотвратить их, ни избавиться от них, тем более что облекались они в живые и соблазнительные формы. Я часто наблюдал за лицом и туалетом герцогини, зрелище это ласкало мои глаза, но я не воображал себе ничего больше того, что видел. Дело пошло совсем по-другому после наглых слов, которые при мне были произнесены. Они подействовали на мой ум помимо моей воли. Я начал понемногу, незаметно для себя приходить к заключению, что пышное убранство герцогини скрывает такое же тело, как у всех женщин. Сначала эта мысль появилась бегло и неопределенно, на один миг, и задержался я на ней ровно настолько, чтобы поспеть отогнать ее, но возвращалась она так часто, что скоро я свыкся с тем, что было в ней дерзкого и смелого. Я не избегал ее, как следовало бы. Напротив, я вызывал ее в себе, так что в конце концов малейшие подробности ее стали мне привычны. Дойдя до этой точки, я пошел и дальше. Да… у этой прекрасной дамы есть тело, как у всякой другой, и это тело служит не только для того, чтобы носить на себе материи. Оно имеет еще иные применения, о которых я знал только понаслышке, не соображая точно, в чем они состоят; тем не менее я был уверен, что герцогиня позволяет другим вольности, малейшая из которых показалась бы мне чудесной. Свои губы она предоставляла поцелуям. Поцелуями покрывались ее руки и плечи. Она не только допускала это, она сама отвечала на поцелуи. Это, по крайней мере, было мне известно. К этому приходят с женщинами, и от одной подобной мысли я был вне себя. Легко можете себе представить, что такие размышления, благодаря моей молодости, в одно и то же время и возбуждали и смущали меня, так что я то предавался им с восхищением, то с ужасом отгонял их от себя. Я ненавидел самого себя за то, что на минуту поддался клеветническим наветам. Разве все россказни о герцогине не были ложью и выдумкой? И внезапно та, которую я только что воображал себе с невероятной фамильярностью, снова отдалялась и делалась тем, чем и не должна была бы никогда переставать быть для меня, — самой добродетельной дамой в королевстве.
Тем не менее, несмотря на доводы рассудка, волнения мои не уменьшались. Я плохо спал и потерял аппетит. Все время, что мог я урвать от работы, бродил я около особняка де Гриньи. Дня мне не хватало на это похвальное занятие, и я посвящал ему часть ночи. Я следил, освещены ли окна или свет потушен, я караулил, когда она выезжает и возвращается обратно. Должен признаться, что я не заметил ничего особенного, что подтверждало бы то, что открыто повторялось уже в народе, а именно, что герцогиня пускает к себе в дом любовников, что их много и они часто меняются. Эти слухи меня мучили. Я бы хотел собственными глазами проникнуть через толстые стены особняка. Я мечтал под каким-нибудь предлогом пробраться туда. План этот был одним из излюбленных моих мечтаний. Я придумывал тысячу махинаций — все неисполнимые. Я жил все время в лихорадочном состоянии, рассеянный ко всему окружающему.
Как ни был я слеп, с течением времени пришлось мне заметить, что странное мое поведение заставило господина Пюселара изменить свое отношение ко мне, что отозвалось и на его обращении. С того вечера как мы с ним встретились при луне на пустыре, где теперь возвышается особняк де Гриньи, он выказывал ко мне живейший, неослабевавший интерес, и я многим был ему обязан. Он дал мне флейту в руки и научил ею пользоваться. Как только я был в состоянии прилично применять свои способности, он принял меня в свою труппу и дал таким образом средство к существованию. Но теперь он гораздо реже прибегал к моей помощи. Вполне естественно, что терпение его истощилось, так как постоянная моя рассеянность мешала мне выказывать и то малое искусство, что я приобрел; конечно, он не хотел рисковать и боялся, что я буду причиной нестройности в его оркестре. Действительно, слишком часто я или вступал не вовремя, или фальшивил, что самым неприятным образом нарушало унисон. Так что не раз, прощаясь со мной после концерта, он не приглашал меня участвовать в ближайшем. Наоборот, он старался тайком от меня назначать остальным музыкантам место следующей встречи. Они сговаривались потихоньку и держались от меня в стороне.
Это секретничанье меня не особенно огорчало: занятый всецело тем, о чем уже говорил вам, я не тяготился свободным временем. Я пользовался им для того, чтобы бродить около особняка де Гриньи. Лицезрение герцогини волновало меня все более и более. При виде ее кареты у меня дрожали поджилки и выступала испарина. Часто я принужден был идти домой и ложиться на свой матрац.
Однажды я так валялся, предаваясь своим думам, как вдруг в мою дверь тихонько постучали. Вошел мэтр Пюселар. Я целую неделю его не видел. Он сел со смущенным видом и сказал, что действительно все это время во мне не нуждался, но что, если я хочу, сегодня вечером я могу пойти с ним и Жаком Сегэном давать концерт в дом, куда он ходил уже несколько раз с Сегэном и Ван-Кульпом. Сегэн и Ван-Кульп были обычные сотоварищи мэтра Пюселара. Сегэн играл на скрипке, а Ван-Кульп — на лютне. Последний, будучи нездоров, не выходил несколько дней из дому. Тогда мэтр Пюселар вспомнил обо мне.
Когда я согласился на предложение, мэтр Пюселар понизил голос. Он признался, что сначала у него были колебания насчет меня; я ему казался слишком молод, но в конце концов в пятнадцать лет можно уже не разбалтывать секретов. Он взял с меня клятву не говорить, куда мы пойдем, прибавив, что в наших общих интересах будет помалкивать. Я обещал, что не буду нарушать молчания. Он сказал, что в конце концов мне хорошо заплатят, и ушел, прося не опоздать к месту встречи и одеться чистенько.
Я явился в условленный час на место, указанное мне мэтром Пюселаром, который вскоре пришел с Сегэном. Их таинственность возбудила мое любопытство. Они дали мне знак следовать за ними. Ночь уже окончательно наступила. Преданный обычным своим мечтаниям, я не обращал внимания, по какой дороге мы идем, как вдруг, после многочисленных поворотов, мэтр Пюселар остановился перед потайной калиткой, проделанной в высокой стене, за которой можно было различить деревья сада, тотчас же признанного мною за сад при особняке де Гриньи. Я сразу начал дрожать всем телом, покуда мэтр Пюселар тихонько вставлял ключ в замочную скважину и убеждал нас не шуметь и ступать осторожнее.
Мы прошли мимо нескольких групп деревьев по простой аллее между загородей из кустарников. В конце аллеи на круглой площадке журчал фонтан. Вода стекала в бассейн. Вдали дом де Гриньи представлялся темной и спящей громадой. Мы подошли к нему. Мэтр Пюселар постучался в маленькую дверцу, она открылась, и мы очутились в темном коридоре. Мы спустились вниз на несколько ступеней. Мэтр Пюселар подталкивал меня в спину.
Мы вошли в блестяще освещенный зал, где был накрыт стол. На нем находились блюда и вина, а сбоку — рядышком два стула. Мэтр Пюселар расставил нас в ряд, а сам поместился у стола. Мы ждали. Сердце мое билось. Ах, сударь, оно забилось еще сильнее, и я думал, что оно совсем разобьется, когда я увидел, что в залу вошла сама герцогиня де Гриньи в изящнейшем наряде; золотистые волосы ее были чудесно причесаны, грудь открыта. За нею шел граф де Бертоньер. Что делал он в такой поздний час у графини? Что делали мы сами? Что означал этот тайный ужин? Тем временем они сели за стол. Сегэн настраивал скрипку. Мэтр Пюселар и я попробовали свои флейты. Я думал, что не найду дыханья для звуков. Но удивлению моему тут еще не настал конец.
Вообразите себе мое состояние и положение, в котором я находился. Герцогиня, как только села за ужин, принялась громко смеяться. Она часто подносила ко рту свой бокал и сама наливала графу де Бертоньеру. Тот был молод и красив, но я не мог прийти в себя от его манер и разговора. В ответ на его двусмысленности и даже сальности герцогиня откидывалась на спинку стула с разгоревшимся от вина лицом, и, вместо того чтобы сердиться на некоторые жесты и вольности, она только пуще хохотала. Оба, по-видимому, забыли о нашем присутствии. Мэтр Пюселар как ни в чем не бывало продолжал играть на флейте, я следовал его примеру, сам не знаю как, не спуская глаз с представлявшегося моим взорам зрелища.
Господин де Бертоньер скоро окончательно напился. Он принялся буянить, бить посуду, кричал и пел во все горло. Иногда этот сумасшедший шум прорезывал хохот герцогини. Полуобнаженная, распустив волосы, она побуждала к буйству. Лицо ее, раскрасневшееся не от стыда, а от сладострастия, казалось лицом вакханки. Щеки горели, как во время оргий. Ах, сударь, как она была прекрасна в этом грубом бесстыдстве, вся пылающая развратом!
Мэтр Пюселар перестал играть. Было слышно, как вино выливается из бутылочного горлышка. У меня зуб на зуб не попадал. Я прислонился к стене, чтобы не упасть.