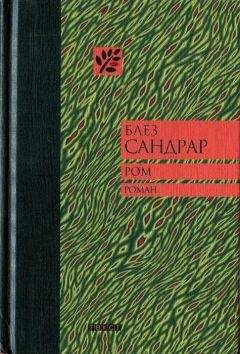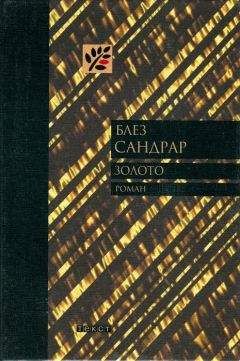Он пишет это 14 мая 1923 года. Можно предположить, что в состоянии крайней безнадежности. Но правду ли он говорит? И если да — то всю ли?
В Перигоре у него мать, и он продолжает каждый месяц посылать ей ренту в триста франков. Этот долг он исполнял всегда, но удастся ли исполнить его в этот месяц? А в следующий?
Он работает, работает вовсю.
В толпе он теперь не похож на всех. Он затравлен и изможден…
И вот наконец — процесс.
Он начался 17 декабря 1923.
Двадцать один месяц ждал этого Жан Гальмо. Двадцать один месяц Жан Гальмо под гнетом тяжких обвинений.
Перед началом процесса случаются два события: сперва, 28 ноября, от своего иска отказывается Сообщество провинциальных банков, а 12 декабря то же самое делает Огюст Раво. Отзывая свои иски, оба жалобщика признали прямодушие и чистосердечие Жана Гальмо…
На этом процессе найдется над чем поразмыслить. Мэтр Анри-Робер, его защитник, будет не единственным, кто воспоет ему хвалы. Мсье де Фремикур, заместитель прокурора республики, известный как один из самых неподкупных магистратов Дворца правосудия, выскажется о Жане Гальмо самым неожиданным образом: с симпатией и восхищением.
Он обрисует его не только как очень умного, трудолюбивого и смелого коммерсанта, но и как мыслителя, поэта, талантливого писателя. Он напомнит о том, сколько сделал Гальмо для Франции и для Гвианы. И даже ромовое дело, на которое извели столько чернил, будет им упомянуто во славу обвиняемого! Он сожалеет, что Жан Гальмо допустил «профессиональные погрешности», однако прощает его, поскольку его намерением было преодолеть кризис. Упомянув под конец и о свидетелях, признавших честность Жана Гальмо, он завершает требованием учесть смягчающие вину обстоятельства и говорит даже об оправдательном приговоре.
Защитительная речь мэтра Анри-Робера, точная и сильная, заключается такой фразой: «Думали, что вы окажетесь без всякой защиты и помощи, однако у вас еще есть немало всего, чтобы, как пожелал этого в недавней речи господин поверенный, снова занять подобающее вам место, какое вы занимали в деловом и политическом мире, и вновь стать одним из хозяев этой страны».
Уж этот процесс…
Присутствовало на нем пятьдесят гвианцев, сбежавшихся со всех концов Парижа поддержать своего депутата. Оказалось, что один из них прибыл со своей далекой родины, не побоявшись преодолеть 8000 километров, чтобы свидетельствовать в пользу обвиняемого.
Вердикт мог быть только оправдательным, никто и не сомневался в этом.
А расчет-то оказался неверен…. Год тюрьмы условно… Взыскать 10 000 франков… лишение гражданских прав на пять лет…
Да подумайте сами: правосудие, девять месяцев протомившее Гальмо в тюрьме; правительство, ловко спрятавшее концы других скандальных дел, потратив двадцать один месяц на эту волокиту, — разве могли они вынести оправдательный приговор, тем самым официально выставив себя на посмешище?
Жива еще одна женщина, старая негритянка в платье давно немодного покроя, которая вспоминает, сидя на берегу реки за старой лачугой, и напевает печальным надтреснутым голосом:
Как взлетал самолет,
Так сбегался весь народ.
Мальчуганы и девчонки —
То-то счастья полон рот!
Полетел он в Марони,
Пролеты над Инини.
В самолете власть летает.
Миллионы все считает.
Хочешь миллион иметь?
В самолет садись лететь!
Это очень древняя кормилица с нежными глазами: не о выборах ли думает она, когда поет эту песню?..
И тогда они все высыпают на улицы — деревенские парни, работяги, крестьяне, встают под навесами для лодок и у дверей лачуг или с достоинством прохаживаются, раскланиваясь друг с другом церемонно и торжественно.
Никто не вскрикнет, оживления не заметно. Этот народ — само спокойствие, мягкость, наивное достоинство.
Но что же скрывается за этим простосердечием?
Как в Гарлеме (Нью-Йорк), так и в Байе (Бразилия), и на Антильских островах: общение с белыми выявляет в этих душах большие перспективы… Но такое даже мельком не дано увидеть никому из белых. Тут скрыто великое таинство. И оно воссияет во всем блеске, если чувства искренни…
Какие отзвуки могло породить в таком народе, с его культом вуду, это темное дело Гальмо, о котором шумели все газеты и в Париже, и даже в Кайенне? Такое темное, запутанное дело, что из парижан-то мало кто смог в нем хоть как-то разобраться…
Были такие, кто читал газеты, и вечерами, подолгу, все повторяли их слова, полунасмешками выражая неодобрение и обмениваясь таинственными знаками.
Долгие, долгие, долгие шушуканья, вдруг резко переходящие в протяжный вой, речитатив сквозь сжатые губы, а ноги в это время ритмично двигаются будто сами по себе, без стеснения приплясывая на месте в фигурах магического танца…
Глухие заклинания. И один, один, только один заполошный крик: «Папа Гальмо!..»
Папа Гальмо — их кумир, их благодетель, их божество. Он дал им высокие заработки, возможность участия в распределении прибыли, профсоюзы рабочих, он им покровительствовал, он сам-един, и старший брат, и отец родной. На улицах его можно видеть беседующим с мамашами; а в карманах у него всегда отыщутся конфетки для малышей его «детушек». Он знает каждого по имени. Он преисполнен снисходительности и добродушия. Разговаривает тоном дружеским, а слова-то произносит важные, весомые, они это просто обожают. Они влюблены в него до безумия.
Гальмо свободу дал нам, да!
Гвиана освобождена!
Гальмо!
Чем неторжественный гимн? Ну, или — почти…
15 марта 1921 года, когда против него был подан иск и он был арестован, Жан Гальмо написал в Гарлем Маркусу Грэвею, основателю большого паннегритянского движения: «Необходимо сделать так, чтобы грозный голос чернокожего населения, слившись в едином порыве, потряс все народы и объявил им о близком освобождении 400 миллионов чернокожих — самой колоссальной силы человечества. Я — с вами».
В январе 1922-го, выйдя из тюрьмы, он не преминет напомнить подоспевшим журналистам о том, что «Рене Маран, лауреат Гонкуровской премии — родом с Гвианы, все его предки по отцовской линии родом из Кайенны. А его семья до сих пор живет в Гвиане».
Да он и сам, Гальмо, утверждает, что в его жилах течет креольская кровь…
Это для уверенности, что именно Гвиана — настоящая родина «папы Гальмо».
Так поэтому небось его и засадили в тюрьму в Париже-то?
Тайна…
С трибуны палаты депутатов Гальмо заявил:
«…И я чувствовал, что за этими нападками, целью которых был я, стоит неведомая сила, и подоплека ее махинаций мне неизвестна…»
Как представляют себе эту неведомую силу наивные дети великих тайн — креолы?
Весьма любопытно констатировать, что в эпоху, столь склонную объяснять все на свете, готовую просто упразднить все тайны, то есть в такую эпоху, как наша, имеющую на вооружении то, чего никогда прежде еще не бывало, инструменты и исследовательские методы, каждый день раздвигающие границы непознанного и дающие науке возможность прорывов в область чудес, — весьма любопытно, говорю я, констатировать, что никогда еще жизнь не была окутана таким глубоким покровом тайны, как в наши дни.
Ее дыхание чувствуется повсюду, и даже в ежедневных газетах, зеркалах сиюминутной жизни, где все устроено и до блеска надраено лишь ради того, чтобы представить все происходящее ясным и логичным, — даже там между любых двух строк, в подтексте рассказа о любом событии, вы найдете толику тайны, придающей самой простой сводке новостей привкус чего-то мудреного, темного, словно бы действий оккультных сил, на все влияющих и всем управляющих…
И вот глотают за милую душу россказни тех, кто утверждает, будто современным миром правит загадочный синклит древних мудрецов, заседающих где-то в Индии и хранящих ключи от наших судеб, или Семь Светочей Сионских, или неприметный человечек в неприметной конторе где-то в Париже, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке, неприметный человечек, чьи зрачки испускают лучи, он обладает грозной волей и в сердце у него одни только цифры, котировки, миллионы, миллиарды, доллары, фунты, золото, векселя, и все это он покупает, правит всем, может все. Никто никогда не видывал никого из них, этих грозных Властелинов Мира, но само их существование очевидно настолько, что впору писать их биографию. Это они устраивают все, что происходит — войну, мир, революцию… землетрясения, эпидемии, кораблекрушения… и кризисы, и лопнувшие банки — это все тоже они…