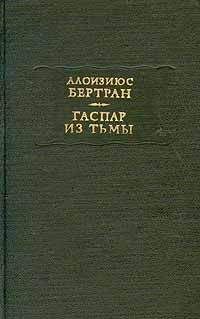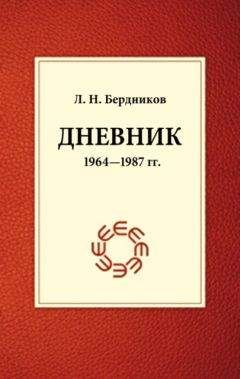И тебя будут любить мои возлюбленные, баловать мои приближенные. Ты будешь владычицей мужчин с зелеными глазами, которым я тоже сжимаю шею в моих ночных ласках, тех, кто любит: море, море безбрежное, беспокойное и зеленое: воду бурно-изменчивую; даль, где им никогда не бывать; женщин, которых им не ласкать; цветы мрачные, подобные кадильницам неведомой веры; зверей мудрых и томных, воплотивших в себе их безумие».
Вот поэтому, гадкое, милое, избалованное дитя, я здесь сейчас, склоненный у твоих ног, ища во всем твоем существе отсвет грозной Богини, вещей восприемницы, кормящей отравой всех лунатиков.
XLIV. СУП И ОБЛАКА [199]
Моя маленькая безрассудная возлюбленная позвала меня обедать; в открытое окно столовой я созерцал изменчивые очертания облачной архитектуры, в которой господь бог из клубов пара воплощает причудливые неосязаемые конструкции. И, глядя на них, я думал: все эти фантасмагории почти так же прекрасны, как глаза моей возлюбленной, маленького безрассудного зеленоглазого чудовища…
И вдруг я получил увесистый удар кулаком в спину и услышал прелестный голосок, истерически резкий и как бы осипший от алкоголя, голосок моей дорогой маленькой возлюбленной, которая изрекла: – Да будешь ли ты наконец есть суп или будешь витать в облаках, чертов ротозей!
L. СЛАВНЫЕ СОБАКИ [200]
Я никогда не краснел, даже перед молодыми писателями-современниками, за свое восхищение Бюффоном [201], но не дух этого певца возвышенной природы призываю я себе на помощь сегодня. Нет. Более охотно я обращусь к Стерну [202] и скажу ему: «Спустись с небес или простри передо мной Елисейские поля, чтобы вдохновить меня, о несравненный чувствительный балагур, на достойный тебя гимн в честь собак – славных собак, обездоленных собак! Явись, восседая на знаменитом осле, который повсюду сопровождает тебя в памяти потомков; и, главное, чтобы этот осел не забыл бы держать бессмертное миндальное пирожное, изящно свисающее с его губ!»
Прочь, академическая муза! Мне нечего делать с этой престарелой ханжой! Я призываю близкую музу – простенькую горожанку, земную музу, чтобы она помогла мне воспеть собак, славных бродяг, бедных грязнуль, всеми, кроме бедноты, презираемых, шелудивых, больных, ибо они товарищи по несчастьям бедняку и поэту, глядящим на них глазами собрата.
Долой выхоленного пса, этого четверолапого фата, дога, кинг-чарльза, надутого мопса или болонку, таких самовлюбленных, нахально путающихся в ногах у гостя или лезущих к нему на колени в полном убеждении, что это доставляет ему удовольствие, надоедливых, как ребенок, глупых, как девчонки-лоретки, часто сварливых и наглых, как лакеи! И особенно долой этих змеи на четырех ногах, завитых, жеманных бездельниц, именуемых левретками, острые носики которых настолько лишены чутья, что не распознают след друга, а плоские головки – соображения, достаточного, чтобы играть в домино.
Прочь, на место! Назойливые паразиты!
Пусть они валяются на своих шелковых подушках! Я воспеваю собаку паршивую, собаку бездомную, собаку-бродягу, собаку-комедианта, чей инстинкт так же чуток к повседневной нужде, этой доброй матери, истинной покровительнице разума, как инстинкт бедняка, уличного акробата и цыгана!
Я воспеваю собак в беде, блуждающих в одиночку по трущобам огромных городов, как бы говорящих бездомному бедняку своими одухотворенными страдальческими глазами: «Возьми меня с собой, и, может быть, соединив нашу горькую участь, мы обретем подобие счастья».
«Куда спешат собаки?» – спрашивал когда-то Нестор Рокеплан в одной из своих бессмертных статей, о которой он, конечно, позабыл и которую только я один да, может быть, еще Сент-Бёв помним сегодня.
Куда же спешат собаки, спросите вы, ненаблюдательные люди? Они спешат по своим делам.
Деловые встречи, любовные свидания. Сквозь туман, метель, слякость, в палящий зной, под проливным дождем они появляются, исчезают, трусят, проскальзывая под экипажами, терзаемые блохами, побуждаемые страстью, потребностями или долгом. Как и мы, они с раннего утра на ногах в поисках пропитания или в погоне за удовольствиями.
Одни, найдя ночлег среди развалин предместий, отправляются в определенный утренний час, ежедневно, в надежде на даровое угощение к дверям какой-нибудь кухни Пале-Рояля; другие целыми стаями пробегают более пяти лье, чтобы принять участие в трапезе, уготованной для них жалостью престарелых дев, чье одинокое сердце отдано четвероногим, ибо двуногие олухи уже не вожделеют к ним.
Иные подобны беглым неграм, когда, принуждаемые любовной жаждой, они покидают порой свои убежища и устремляются в город попрыгать вокруг смазливой сучки, несколько небрежной в своем туалете, но гордой и признательной.
И все они поразительно пунктуальны, хотя у них нет ни записных книжек, ни узелков на платках, ни папок с деловыми бумагами.
Знакома ли вам медлительная Бельгия и ведомо ли вам, как мне, восхищение зрелищем здоровенных собак, впряженных в тележку мясника, молочницы или булочника и своим триумфальным лаем выказывающих гордое удовлетворение, испытываемое от соревнования с лошадьми?
А эти две принадлежат к разряду еще более развитых существ. Позвольте мне провести вас в жилище уличного комедианта [203], когда его нет дома. Жалкая деревянная койка без полога, смятая постель с пятнами от раздавленных клопов, два соломенных стула, железная печурка, поломанные музыкальные инструменты. Да, печальное обиталище! Но взгляните, прошу вас, на этих двух мыслящих существ, облаченных в изодранные, но когда-то роскошные попонки, расчесанных, как трубадуры или военные франты, которые со сверхъестественным терпением наблюдают за «безымянным блюдом», побулькивающим в котле над огнем, за торчащей из котла длинной ложкой, похожей на шест, возвещающий, что кладка кирпича на стройке завершена.
И в самом деле, не подобает ли столь ревностным труженикам, каковыми являются эти псы-комедианты, двигаться в путь лишь после того, как удастся наполнить желудки густым и наваристым супом? И не простите ли невинное сладострастие и этим беднякам, целый день выносящим равнодушие зрителей и беззаконие какого-нибудь нанимателя, забирающего себе львиную долю доходов и пожирающего больше супа, чем четверо актеров?
Сколько раз, растроганно улыбаясь, я наблюдал этих четвероногих философов, покорных слуг, услужливых и преданных, которым республиканский словарь должен был бы определить достойное их место служащих, если бы республика, столь озабоченная счастьем людей, имела бы время оберегать счастье собак!
И сколько раз я думал о том, что, может быть, был где-нибудь (как знать в конце концов), в воздаяние за все мужество, терпение, тяжелый труд, создан специальный рай для славных собак, бедных собак, грязных собак, обездоленных собак. Утверждает же Сведенборг [204], что существует особый рай для турок, особый – для голландцев.
У Вергилия и Феокрита пастухи в песенных соревнованиях награждались хорошим сыром, флейтой лучшего мастера или козой с щедрым выменем. Поэт, воспевший собак, был награжден красивым жилетом [205], роскошным и выцветшим, одновременно навевающим думы о тускнеющем солнце, о блеклой красоте увядающих женщин и о днях ранней осени.
Никто из тех, кто присутствовал тогда в таверне на улице Вилья-Эрмоса, не забудет, с какой поспешной стремительностью художник сорвал с себя жилет в подарок поэту, ибо он прекрасно понял, как хорошо и благородно воспевать бедных собак.
Так в былые времена один могущественный итальянский тиран подносил божественному Аретино [206] на выбор кинжал, украшенный драгоценными камнями, или придворный мундир в обмен на изысканный сонет или забавную сатирическую поэму.
И каждый раз, когда поэт надевает жилет художника, он не может не думать о милых собаках, о собаках-философах, о днях ранней осени и красоте увядающих женщин.
Теодор де Банвилль [207]. Волшебный фонарь
Перевод Е. А. Гунста
L. ДНО
Мужчина и женщина напились в своей холодной лачуге и уснули, она – на ободранном стуле, он – на полу. По готовой угаснуть свече, красный фитиль которой чадит, струится сало, и она еле
освещает красным отсветом их изувеченные и окровавленные лица, ибо, прежде чем рухнуть, сраженные водкой, они по обыкновению подрались. На краю незастеленной койки сидит полуголый трехлетний малыш и плачет от голода и холода. Но его большая сестра – ей уже шесть лет – подходит к нему, берет его на руки, укутывает в тряпку, где больше дыр, чем ткани, и, не имея ничего другого, чем бы утолить его голод, покрывает его поцелуями, согревает и укачивает в своих худых ручках. И, повзрослев от этой небесной любви, девочка с большими золотистыми глазами и прозрачной кожей уже прекрасна и величественна, как юная мать.