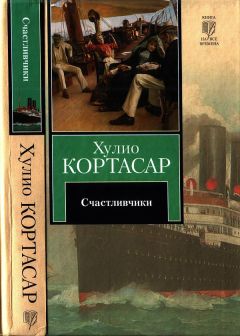Рауль включил свет над изголовьем и задул спичку, которой освещал себе дорогу. Паула спала лицом к нему. В слабом свете ночника ее рыжие волосы казались кровью на подушке.
«Как хороша, — подумал он, не спеша раздеваясь. — Как смягчается у нее во сне лицо, пропадают горькие морщинки меж бровями, всегда насупленными, даже когда она смеется. А рот — как у ангела Ботичелли, такой юный, такой непорочный…» Он усмехнулся. «Thou still unravish’d bride of quitness»[25], — продекламировал он. «Тронута, еще как тронута, бедняжка». Бедняжка Паула, слишком быстро последовало наказание за то, что нелепо взбунтовалась в этом городе, в этом Буэнос-Айресе, где для нее не нашлось никого, кроме таких, как Рубио, первый (если он был первым, ну конечно, он, Паула ему не лгала), или Лучо Нейра, последний, не считая X и Y, да еще ребят с пляжа, да мимолетных приключений по субботам и воскресеньям или на заднем сиденье какого-нибудь «меркури» или «де сото». Надевая синюю пижаму, он, босой, подошел к постели Паулы; его растрогал вид спящей Паулы, хотя он не первый раз видел ее такой, но теперь они с Паулой вступали в новый, можно сказать, интимный и тайный этап, который, возможно, продлится недели и даже месяцы, если продлится, и поэтому его особенно умилил вид так доверчиво спящей рядом с ним Паулы. Хроническая несчастливость Паулы в последние месяцы стала просто непереносимой. То она звонила ему по телефону в три часа ночи, то искала утешения в наркотиках, то шаталась бог знает где, то собиралась покончить с собой, то вдруг принималась его тиранить («приходи сейчас же, не то выброшусь в окно»), то впадала в бурную радость по поводу какого-нибудь понравившегося стихотворения или сотрясалась в рыданиях у него на груди, приводя в полную негодность его галстуки и пиджаки. Вечерами Паула неожиданно заявлялась к нему домой, нарываясь на грубость, потому что ему уже надоело просить ее предупреждать по телефону о своем приходе; и сразу же принималась все осматривать и спрашивать: «Ты один?» — как будто боялась, что кто-то прячется под кроватью или под диваном, и тут же разражалась смехом или плачем и пускалась в бесконечное откровенничанье, запивая все это виски и куря сигарету за сигаретой. Да еще пересыпала все замечаниями, тем более раздражавшими, чем справедливее они были: «Кому пришло в голову повесить сюда эту пакость?», «Разве не видишь, что кувшин на консоли — совершенно лишний?», а то пускалась в морализаторство, излагая свой нелепый катехизис или изливала ненависть в адрес друзей, или сетовала по поводу того, что вмешалась в историю с Бето Ласьервой, что, по-видимому стало причиной их разрыва и ухода Бето. И эта же самая Паула — блистательная Паула, верная и любимая Паула, товарищ и друг, вместе с которой пережито столько изумительных вечеров и политических баталий в университете, разделено столько литературных восторгов и неприятий. Бедная маленькая Паула, дочь политического касика, выросшая в напыщенной и деспотичной семье, как собачка на веревочке привязанная к первому причастию, к монастырскому колледжу, к своему приходскому священнику и своему дядюшке, к газете «Ла Насьон» и к «Колумбу» (ее сестра Кока непременно сказала бы «к театру имени Колумба»[26]), и вдруг эта Паула срывается с цепи и бросается в объятия улицы, нелепый и непоправимый поступок, который отторгает ее от клана Лавалье навсегда и напрасно, первый шаг вниз по наклонной плоскости. Бедная маленькая Паула, как же тебя угораздило оказаться такой глупой в такой решительный момент. Впрочем, во всем остальном (Рауль глядел на нее, покачивая головой) особенно решительных шагов она не совершала. Паула все еще продолжала есть хлеб семейства Лавалье, и благородное семейство нашло в себе силы замять свалившийся на него скандал и оплачивать паршивой овце вполне приличную квартиру. А это — еще одна причина для нервного срыва, и новой вспышки непокорства, и новых планов — вступить в Красный Крест или отправиться за границу, но все это обсуждается в удобной гостиной или в спальне, в квартире со всеми удобствами и современнейшим мусоропроводом. Бедная маленькая Паула. Но так приятно смотреть на нее, спящую глубоким сном (люминал или нембутал?), и знать, что она всю ночь будет дышать тут, совсем рядом, а самому отправиться в свою постель, погасить свет и закурить сигарету, прикрывая спичку ладонью.
В каюте номер пять по левому борту спит сеньор Трехо и храпит точно так же, как у себя дома в супружеской постели на улице Акойте. Фелипе еще не лег, хотя и валится с ног от усталости; он принял душ и разглядывает в зеркале свой подбородок, на котором начинает пробиваться пушок, тщательно причесывается: ему приятно смотреть на себя и чувствовать, что он переживает увлекательное приключение. Он входит в каюту, надевает льняную пижаму, устраивается в кресле выкурить «Кэмел», и направив свет лампы на номер «Эль Графико», принимается неторопливо его листать. Если бы еще старик не храпел, но это было бы уже слишком роскошно. Он все никак не может смириться с тем, что ему не дали отдельной каюты, а вдруг случайно подвернется какая-нибудь, придется поломать голову, как все устроить. То ли дело, если б старик спал отдельно. Смутно вспоминались фильмы и романы, в которых пассажиры переживали в своих каютах потрясающие любовные драмы. «И зачем я взял их с собой», — думает Фелипе и вспоминает Негриту, которая сейчас, наверное, раздевается у себя в чердачной комнате, а вокруг — радио- и тележурнальчики, открытки с фотографиями Джеймса Дина и Анхеля Маганьи. Он листает иллюстрированный журнал, задерживаясь взглядом на фотографии боксерского поединка, и воображает, что победитель на международном матче — он сам, и он подписывает автографы, он нокаутирует чемпиона. «Завтра будем уже за границей», — думается вдруг, и он зевает. Кресло изумительно удобное, но «Кэмел» уже обжигает пальцы, и сон наваливается все больше. Он гасит лампу, включает ночник у кровати и ныряет в постель, с наслаждением ощущая каждый сантиметр простыни и упругого и плотного матраца. Вспоминается Рауль, он, наверное, сейчас тоже ложится, выкурив последнюю трубку, но вместо храпящего старика рядом с ним в каюте такая хорошенькая рыжуха. Уже, небось, пристроился к ней, наверняка, оба голые и, знай, получают свое удовольствие. Для Фелипе слова «получать свое удовольствие» означают все то, что ему известно из собственных попыток в одиночку, из книжек и откровенностей школьных приятелей. Он гасит свет, поворачивается на бок и тянет в темноте руки, желая дотянуться и обхватить тело Негриты, и этой рыжухи, тело, в котором есть и частичка младшей сестры его приятеля, и его собственной двоюродной сестры Лолиты, он гладит и ласкает этот калейдоскоп, и руки его впиваются в подушку, обхватывают ее, выдергивают из-под головы и прижимают к телу, липкому, содрогающемуся в конвульсиях, а рот впивается в ее теплую и безвкусную ткань. Получить удовольствие, получить удовольствие, и он даже не заметил, как содрал с себя пижаму, и вот уже голый прижимает к себе подушку, вытягивается, переворачивается лицом вниз, обрушиваясь на нее всеми почками, изо всех сил, до боли, и все равно — не получается удовольствия, наслаждение не приходит, а только дрожь и судорога, которые приводят его в отчаяние и раздражают. Он кусает подушку, прижимает ее к ногам, притягивает к себе и отталкивает и, в конце концов, привычно сбивается на легкую дорожку, откидывается на спину, и рука начинает ритмично двигаться, то сжимая, то чуть отпуская, умело замедляя или ускоряя движение, и снова это Негрита над ним, точно так, как на французских фотографиях, которые показывал ему Ордоньес, Негрита тяжело дышит, задыхается и старается не застонать, чтобы не разбудить сеньора Трехо.
— Ну что ж, — сказал Карлос Лопес, гася свет. — Вопреки моим опасениям, эта водяная авантюра все-таки началась.
Сигарета рисовала в темноте узоры, потом молочная белизна затянула иллюминатор. В постели было так хорошо, мягкое, едва заметное покачивание убаюкивало. Но прежде чем уснуть, Лопес успел подумать о том, как славно, что среди пассажиров на пароходе оказался Медрано, вспомнить дона Гало с его историей, рыжеволосую подругу Косты, странное поведение инспектора. Потом ему вспомнилось, как он зашел в каюту к Раулю, как они с зеленоглазой девушкой друг друга подкололи. Ничего себе подружка у Косты. Если бы он этого не видел своими глазами… Но он видел, а собственно, что особенного, мужчина и женщина занимают одну каюту под номером десять. Интересно, если бы он встретил ее, например, с Медрано, он бы не нашел в этом ничего странного. А вот с Костой почему-то… Глупо, но это так. Он вспомнил, что Костальса де Монферлана вообще-то звали Коста; вспомнил он и своего старинного соученика Косту. Почему мысль все время крутится вокруг этого? Что-то не укладывалось в привычные рамки. А тон, каким говорила с ним Паула, совсем не соответствовал ситуации, если предположить, что они… Конечно, есть женщины, которые не могут совладать с собой. А Коста, стоя в дверях, улыбался. И оба такие симпатичные. Такие разные. Вот оно, в чем дело, оба они совсем не подходящие друг другу. Между ними не чувствуется связи, нет никакого миметизма, который обязательно присутствует в любовной игре или дружеских взаимоотношениях, когда самые резкие противоположности закручиваются вокруг чего-то такого, что рождает сцепку и ставит все на свои места.