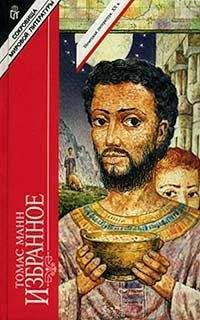Однако уже при жизни Небмара при дворе, отдавая дань моде, много думали и вовсю философствовали, и похоже было, что теперь эта мода распространится. Юный фараон издал и в память сооружения обелиска велел высечь на камнях указ, свидетельствовавший о мудрствующем старании определить сущность солнечного божества на новый, противотрадиционный лад, и притом с той долей четкости, которая не лишена расплывчатости. «Живет, — гласило это определение, — Ра-Гор обоих светозарных мест и ликует в светозарном месте в имени своем „Шу“, что и есть Атон»…
Это было темно, хотя говорило о свете и желало быть очень ясным. Это было сложно, хотя имело своей целью упрощенье и единообразие. Ра-Горахте, как всякий бог Египта, обладал трояким обличьем: животным, человеческим и небесным. Он изображался в виде человека с соколиной головой, на которой стоял солнечный диск. Но и как небесное светило он был тройствен в своем рожденье из ночи, в зените своей мужественности и в смерти на западе. Он жил жизнью, которая родится, умирает и воспроизводит себя, то есть жизнью, идущей к смерти. Но у кого были уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы читать письмена камней, тот понимал, что поучительное воззвание фараона разумело жизнь бога иначе, не как приход и уход, не как становление, гибель и новое становление, не как обреченную смерти, а потому фаллическую жизнь, да и вообще не как жизнь, поскольку жизнь всегда обречена смерти, а как чистое бытие, как неизменный, не знающий ни падений, ни взлетов источник света, источник, от образа которого человек и птица со временем отпадут, так что останется лишь чистый, лучащийся жизнью солнечный диск, чье имя Атон.
Это понимали или не понимали, но, во всяком случае, горячо обсуждали по городам и весям и те, у кого были какие-то предпосылки, чтобы об этом высказываться, и те, кто за полным отсутствием таких предпосылок мог только болтать. Болтали об этом повсюду, вплоть до ямы Иосифа; даже солдаты Маи-Сахме болтали об этом и узники в каменоломне, как только им удавалось перевести дух, и всем было ясно, что это неприятно Амуну-Ра, как неприятен ему сооружаемый под носом у него обелиск, как неприятны дальнейшие действия фараона, связанные с этим философским определением имени, которые и в самом деле зашли весьма далеко. Так, например, округ, где вырастал новый дом Солнца, должен был именоваться «Блеск великого Атона»; ходил даже слух, что сама Уазет, сами Фивы будут именоваться отныне «Город блеска Атона», и толкам об этом конца не было. Даже умирающие в больничном баране Маи-Сахме собирали последние силы, чтобы завести об этом речь, — не, говоря уж о тех, кто страдал только от укусов насекомых или от рези в глазах, так что комендантский метод покоя оказался в серьезной опасности.
Владыка благоухания, казалось, не мог угомониться и вершил свое дело, то есть дело своего поучительно любимого, бога, строительство храма, настойчиво в поспешно, приведя в движение всех каменотесов от слоновьего острова Джебу до самой Дельты. Однако этого всеохватывающего усердия было недостаточно, чтобы построить Атонов дом так, как то подобало Вечной Обители. Фараон настолько торопился и был настолько нетерпелив, что отказался от применения тех требовавших тщательной отделки и к тому же неудободоставляемых каменных глыб, что шли на гробницы богов, и приказал возводить храм неизменного света из небольших камней, которые можно было передавать друг другу бросками, отчего потом понадобилось большое количество известкового раствора, чтобы сгладить стены для расписных барельефов, каковыми те должны были украситься. Амун, как повсюду говорили, над этим посмеивался.
Таким образом, до отсутствовавшего сына Иакова эхо описанных событий докатывалось уже потому, что и на каменоломню Маи-Сахме легло бремя спешного фараонова строительства и ему, Иосифу, приходилось проводить там много времени, держа в руках посох надсмотрщика и следя за тем, чтобы кирка и клинья ни мгновения не лежали без дела, дабы комендант не получал от начальства неприятно иносказательных писем. А в остальном, помогая спокойному своему начальнику, Иосиф по-прежнему вел сносную жизнь каторжанина, и жизнь эта была однотонна, как речь начальника, но насыщена ожиданием. Ибо многого можно было ждать, и близкого, и далекого — сначала близкого. Время шло для него так, как оно и вообще-то идет, знакомым нам образом, не так чтобы быстро, но и не так чтобы медленно; ведь оно идет медленно, особенно когда живешь ожиданием, а посмотришь назад — и кажется, что оно прошло очень быстро. Он жил там, покуда, не обратив, впрочем, на это особого внимания, не достиг тридцатилетнего возраста. А потом настал день крылатого, запыхавшегося гонца, день, который, пожалуй, научил бы Маи-Сахме пугаться, если бы комендант не подозревал и раньше, что с Иосифом может случиться что-то особое.
Пришло судно с лотосом на высоком носу и с пурпурным парусом, — легкое, оно прилетело, подгоняемое с каждого борта пятью гребцами, отмеченное знаком царского дома, скоростная ладья из собственной фараоновой флотилии. Она с изяществом причалила к пристани Цави-Ра, и с нее спрыгнул на берег человек — молодой, такой же легкий и стройный, как принесшее его судно, с худым лицом и длинными, жилистыми ногами.
Грудь его так и ходила под полотном, он запыхался или, вернее, казался запыхавшимся, то есть делал вид, что тяжело дышит. Ведь настоящей причины тяжело дышать у него не было, так как он прибыл на судне, а не прибежал пешком; тяжелое его дыхание было притворным и показным, он тяжело дышал по долгу службы. Правда, потом он побежал или полетел через ворота и дворы Цави-Ра с такой скоростью, безостановочно прокладывая себе путь короткими, негромкими возгласами, сразу же приводившими часовых в бездеятельное замешательство, и требуя во что бы то ни стало самого начальника, — потом, повторяем, он побежал или полетел к указанной ему цитадели настолько стремительно, что, несмотря на его стройность, поддельная затрудненность дыханья вполне могла смениться у него подлинной. Ибо крылышки из листового золота, прикрепленные сзади к его сандалиям и к его шапочке, разумеется, не помогали ему передвигаться, а были лишь внешним знаком его торопливости.
Иосиф, занимавшийся в писарской, заметил прибытие судна, спешку и беготню, но не придал им значения, даже когда ему на все это указали. Он продолжал просматривать ведомости с начальником канцелярии, покуда, тоже уже запыхавшись, не прибежал кто-то из солдат и не передал ему приказа бросить все дела, даже самые важные, и немедленно явиться к коменданту.
— Не премину, — сказал он, но прежде все-таки вместе с канцеляристом просмотрел до конца ведомость, которую держал в руках, а потом уже, конечно, не шажком, но и не стремглав — предчувствуя, наверно, что вскоре всякое быстрое и свободное движение будет ему уже не к лицу, — направился к комендантской башне.
Кончик носа Маи-Сахме был беловат, когда Иосиф вошел в аптечное помещенье, его густые брови были вскинуты выше обычного, а округлые губы разомкнуты.
— Вот и ты, — сказал он Иосифу притихшим голосом. — Тебе следовало бы уже быть здесь. Сейчас тебе объяснят, в чем дело!
И он указал рукой на крылоносца, который стоял рядом с ним — собственно даже, не стоял, то есть не стоял спокойно, а все время шевелил руками, головой, плечами и ногами, словно бежал на месте, чтобы отдышаться или, пожалуй, верней, запыхаться.
— Твое имя Озарсиф? — спросил он тихо и торопливо, направив на Иосифа свои быстрые, близко посаженные глаза. — Ты тот помощник коменданта, который занят надзором и кому был доверен уход за некими жителями здешнего домика с коршуном два года назад?
— Да, это я, — сказал Иосиф.
— Тогда ты без всяких сборов отправишься со мной, — отвечал тот, еще быстрее двигая ногами и руками. — Я Первый Скороход фараона, я его Спешный Гонец и прибыл на его быстроходной ладье. Ты обязан немедленно взойти на нее вместе со мной, чтобы я доставил тебя ко двору, ибо ты должен предстать перед фараоном!
— Я? — спросил Иосиф. — Как это может быть? Я для этого слишком ничтожен.
— Ничтожен или нет, — но такова прекрасная воля фараона, таков его приказ. Не переводя дыхания доставил я этот приказ твоему начальнику, и не переводя дыханья ты должен явиться на зов.
— Я брошен в эту темницу, — возразил Иосиф, — правда, по недоразумению и, так сказать, украден, отчего и нахожусь здесь внизу. Но я здесь каторжанин, и хотя моих оков не видно, они на мне. Как мне выйти за эти ворота и стены к твоей скоростной ладье?
— Все это ровным счетом ничего не значит, — зачастил скороход, — по сравнению с прекрасным приказом. Он все это мгновенно уничтожает и одним махом разрывает любые оковы. Нет ничего, что устояло бы перед чудесной фараоновой волей, но будь спокоен, это более чем невероятно, что ты устоишь перед ней, и более чем вероятно, что тебя вскоре вернут сюда, на твою каторгу. Не думаю, чтобы ты оказался умнее величайших ученых и чародеев из фараонова книгохранилища и посрамил ясновидцев, пророков и толкователей из дома Ра-Горахте, которые изобрели солнечный год.