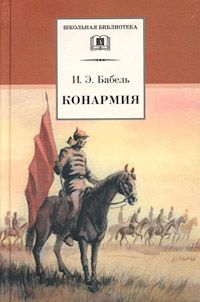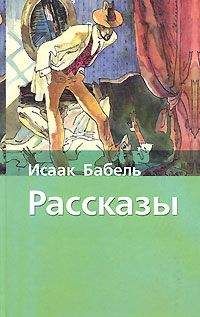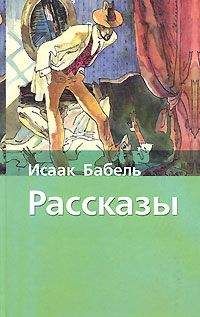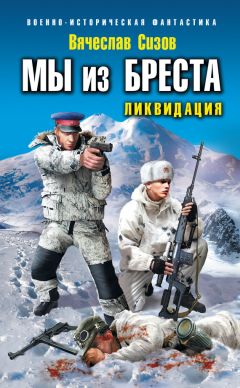— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно…
И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.
Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.
— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.
— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне…
— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?
— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.
— Вы глухи, Аггеев, или нет?
— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят…
И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.
— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.
Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.
Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.
— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам…
— Прощай, — ответил Коротков.
Я взял седло с телеги и ушел, и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.
— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь…
Продолжение истории одной лошади
Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш Начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.
Хлебников — Савицкому
«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — „Даешь мировую революцию!“ — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении…»
Савицкий — Хлебникову
«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Рулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».
На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:
— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат… Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени… Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем… Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой…
«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»
«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»
…А он:
«Какой вы, — говорит, — есть атлет… Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию…»
…Ну, однако, еще не рубаю.
«Зачем вы, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь… — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.
— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото, какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую, все ей. Жили, как умели… вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка…» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души…
— Понял про коня, — бормочет Левка и замахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала, чего говорит?.. При ем сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..
— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.
— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ем говори…
— Отдам. Пусти!
И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.
— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.
— Вот холуйское знатье, — ответил Шевелев. — Пулеметами вскрывает нас на правом фланге…
И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.
— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях… Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью… Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло…
Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.
— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал…
Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.
Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.
— К завтрему уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть…
И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буек горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.
Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.