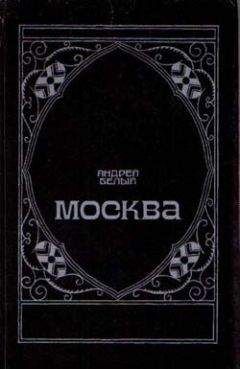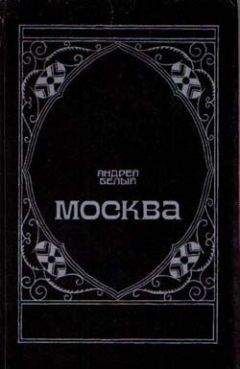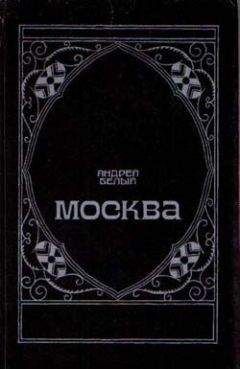И фиксатуарные бакенбарды прошлись между ними
почти что сквозь них.
Проходили в столовую, где прожелтели дубовые стены; с накладкой фасета: везде – желобки, поперечно-продольные; великолепный буфет; стол, покрытый снеговою скатертью, ясно блистал хрусталем и стеклом; у прибора, у каждого – по три фужера: зеленый, златистый и розовый; ваза; и в ней – краснобокие фрукты; и – вина; и – сбоку на маленьком столике яснился: облесками холодильник серебряный.
– Суп с фрикадельками, – смачно сказал фон-Мандрр
Он засунул салфетку за ворот: умял; и взглянул на Лизашу – с заботливой и с неожиданной лаской:
– Не хочется кушать?
– Ах, нет.
– Вы б, Аленушка, хлоралгидрату приняли.
Лакею дал знак: и лакей, обернувши салфеткой бутылку, ее опустил: в холодильник.
– Да, да, молодой человек: фрикаделька… Что я говорю… познается по вкусу, – и пальцами снял он помаду губную, – а святость – по искусу
Пальцы помазались.
И завлажнил он глазами – такой долгозубый, такой долгорукий, к Лизаше приблизился клейкой губой. Перекинулся станом к мадам Вулеву:
– Как с летучей мышкой, мадам Вулеву?
– Наконец, догадалася я, Эдуард Эдуардович, – сунулась быстро она, – это Федька кухаркин поймал под Москвою: и – выпустил: в комнаты… Я же давно замечала: попахивает!
– Попахивает?
И с особенным пошибом молодо голову встряхивал он, заправляя салфетку.
– Что же вы, молодой человек, – не хотите тетерьки; вкусите ее… Мы вкушали от всяких плодов, когда были мы молоды.
И обернулся к тетерьке.
Лизаша ударила кончиком белой салфетки его.
– Вот же вам!
Он – подставился.
С явным вкушал наслажденьем тетерьку: тянулся к серебряному холодильнику он: за бутылкой вина; и Митюше фужер наливал – до краев: золотистой струею.
Тянулся с фужером: обдал согревательным взглядом: но взгляд – ледянил; и вставало, что этот – возьмет: соком выжмет:
– Так чокнемся!
Он развивал откровенность.
Так было не раз уже: будто меж ними условлено что-то: а если и нет, то – условится; это – зависит от Мити; Лизаша – ручательство; впрочем, – условий не надо: понятно и так.
Они чмокнулись.
В жестах отметилось все же – насилие: стиск, слом и сдвиг.
В то же время кровавые губы улыбочкою выражали Лизаше покорность: казалось, – глазами они говорили друг другу:
– Теперь – драма кончена.
– Что это?
– Как, – мне еще?
– Ну же, – чокнемся!
– Я, Эдуард Эдуардович, – я: голова моя слабая!
– Не опьянеете!
Видел, пьянея, – в движеньях Лизаши – какое-то: что-то; во всей атмосфере стояло – какое-то: что-то… душерастлительное и преступное.
Дом с атмосферой!
Лизаша сидела с невинным лицом:
– Митя, – вы что-то выпили много: не пейте!
– Оставь, – снисходительным жестом руки останавливал Эдуард Эдуардович.
Митя бессмыслил всем видом своим
– Так ваш батюшка – что?
– Говорите: бумаги свои держит дома?
– Так письменный стол, говорите?
– Что?
– Все вычисляет?
– Когда его можно застать?
– Поправляется?
– Эдакий случай несчастный!
Хладел изощренной рукою (с поджогом рубина), которою он протянулся за грушей.
«Лизаша, Лизаша», – кипело в сознании Мити. И видел: мадам Вулеву и Лизаша – исчезли.
– Лизаша!
Мандро развивал откровенность – так было не раз уже: будто меж ними условлено что-то: а если и нет, то – условится; это – зависит от Мити; Лизаша – ручательство; впрочем – условий не надо. Понятно и так.
Голова закружилась: и чувствовал – вкрап в подсознанье. Вина? Или – взгляда Мандро? Он – не помнил: в ушах громко ухало; помнил – одно, что условий не надо: понятно и так; очутился в гостиной; наверно, в сознании был перерыв, от которого он вдруг очнулся: пред зеркалом.
Кто это?
Красный, клокастый, с руками висляями, – кто-то качнулся у кресел, кругливших свои золоченые львиные лапочки; Митя склонился на кресло: пылало лицо; и в мозгах копошилось какое-то все толокно, из которого прорастало желанье: Лизашу увидеть, сказать про свое окаянство; за этим пришел.
Точно сон, появилась Лизаша.
Она, как водою, его заливала глазами: стояла в коричневом платьице, с черным передником – на изумрудном экране, разрезывая златокрылую птицу.
– Вы, Митенька, пьяны.
– Нет, знаете, – дело не в этом, а в том, что мне очень, – вы знаете.
Тут он качнулся, схватившись за кресло.
– Ну да: говорили вы это уже.
– Нет, Лизаша, – послушайте; я – ничего не сказал: я пришел говорить; и вы знаете сами, что я ничего не сказал.
– Что такое?
– Подделал, Лизаша!
Она посмотрела вполне изумленно:
– Подделали! Вы? Что такое подделали?
Руку взяла и погладила:
– Подпись отца я подделал…
– Да нет!
И Лизаша погладила щеку, рукою холодной, как лед, поднимая в пространство какие-то неморожденные взоры:
– Несчастненький.
Он за нее ухватился: она – отстранялась.
– Нет, – тише… Вы, бог знает… Пьяны…
Лицом подурнела: и – дернулась, видя, что Митя идет на нее: отступала к портьере.
– Нельзя!…
Он схватился рукою: рвалась; не пускал.
– Ах, жалкий вы жалкехонек, Митенька.
И унырнула за складки портьеры, оставивши ручку свою в его цепких ладонях; он к ручке припал головой, покрывая ее поцелуями; ручка рвалась – за портьеру:
– Пустите же, – раздавался обиженный голосок, как звоночек, за складкой портьеры.
И тут же на голос пошел быстрый шаг.
Ручка выдернулася.
Между складок портьеры наткнулся на… крепкий кулак, его больно отбросивший; тут, растопыривши пальцы, скользнул: и – откинулся: складки портьеры разрезались; ясно блеснули – манжетка, рубин и линейка: линейка рас-свистнула воздух, врезаяся гранью в два пальца.
И пальцы – куснуло расшлепнутым звуком: они – окровавились.
Точно раздельные злые хлопочки, отчетливо так раздалось за портьерой:
– Ха-ха!
Перекошенною гримасой оттуда просунулася седорогая голова и две иссиня-черные бакенбарды.
Тут Митенька бросился в бегство: за звуком шагов раздавалась пришлепка.
С разбегу наткнулся на лысого господинчика он.
Господин Безицов разлетелся к порогу гостиной.
Там встретил его фон-Мандро, оборудовав рот белой блеснью зубов и втыкаясь глазами бобрового цвета; сжал руку, затянутый позою, найденной в зеркале.
Ацетиленовый свет, ртутно-синий; и там розовенье: реклама играла: фонарные светы казались зелеными: окна вторых этажей утухали; а выше, в багровую тьму уходя, ослабели карнизов едва постижимые линии; шлепало снегом холодным в ресницы: бессмыслилось, рожилось, перебегало дорогу, отбитые пальцы горели; душа изошла красноедами; щеки пылали; и ухали пульсы.
Бежал, заметаемый снегом, сметаемый вихрем: все пырскало – крыши, заборы, углы: порошицей, блистающей ясенью крылья снегов зализали круги фонарей; и все – взревывало; пробегали, шли – по двое, по трое: шли – в одиночку; шли слева и справа – туда, где разъяла себя расслепительность; шли перекутанные мехами мужчины; шла барышня в беличьей кофточке; дама, поднявшая юбку, с «дессу» бледно-кремовым, – выбежала из блеска; за нею с серебряным кантом военный, в шинели ив – розово-рдяных рейтузах.
Там шуба из куньего, пышного и черно-белого меха садилась в авто – точно в злого, рычащего мопса, метнувшего носом прожектор, в котором на миг зароилась веселость окаченных светом, оскаленных лиц, – с золотыми зубами.
Бежал мужичок.
– Эка студь!
И морозец гулял по носам лилодером.
***
Лизаша была у себя: ей представился Митя; его стало жалко: того, что случилось в гостиной, она не видела: видела мадам Булеву.
От мадам Булеву же ничто не могло укрываться.
Форсисто стоял Битербарм; ферлакурничал [37] перед мадам Эвихкайтен: форсисто вилял и локтями, и задом:
– «Энтведер» – не «одер»!
Мадам Эвихкайтен плескалася платьем в тени тонконогой козеточки, приподымавшей зеленое ложе, как юбочку нежная барышня; в книксене:
– Великолепно: «энтведер» не «одер»!
Энтведер, затянутый в новенький, сине-зеленый мундир (с белым кантом), – вмешался:
– На этот раз вы, Битербарм, оплошали: ведь предки мои проживали на Одере.
Вот так судьба!
Битербарм – поле прыщиков; зубы и десны; и – что еще? Род же занятия – спорт: но не теннис, – футбол: про себя говорил он: «Я – истый гипполог».
– Послушайте, – вдруг обратился он к Зайну, – скандал с Кувердяевым? Правда, что в классе ему закатили пощечину?
Зайн, тонконогий воспитанник частной гимназии Креймана, очень витлявенький щеголь, с перетонченным лицом, отозвался:
– Ну да, – что-то вышло!
– Как что? – удивился Энтведер. – Вполне оплеуха.
– В чем дело?
– История грязная!
Зайн отошел; уже с Вассочкой Пузиковой разводил фигли-мигли; ведь все говорили, что он – содержанец.