Гитлер хотел снести с лица земли Ленинград и Москву, а оставшихся русских загнать в топи западносибирских болот.
Совсем недавно, читая военные мемуары, я узнал, что в ту самую весну, когда Доська Плетнев, оставшись сиротой, едва-едва удержался в живых, населению поверженного Берлина было выделено 105 тысяч тонн зерна, 18 тысяч тонн мясопродуктов, 4,5 тысячи тонн жиров, 6 тысяч тонн сахара, 50 тысяч тонн картофеля, 4 тысячи тонн соли и 5 тысяч дойных коров[14].
У Плетневых и у Федотовых коров не было даже и до войны, а соль, я помню, занимали в Тимонихе спичечными коробочками, в войну же вываривали рассол из деревянных кадок, в которых солили когда-то грибы…
Серега Пудов, мой отец Иван Федорович, Николай Баров и многие, очень многие другие мои земляки погибли с оружием в руках. Вероятно, они даже не представляли размера страданий, выпавших на долю их престарелых отцов-матерей, их сестер, наконец, жен и детей.
Константин Батюшков полтора века тому назад, предвосхищая мои сегодняшние чувства, писал:
О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной…
Рядом с куполами и башнями Прилуцкого монастыря, за стенами которого лежит прах поэта, расположена взлетная полоса Вологодского аэропорта. Страдное чувство испытываешь при виде взлетающих в небо «ЯКов» на фоне монастырских стен. Около ста лет тому назад под Вологдой же, в маленькой усадьбе Котельниково, капитан первого ранга Александр Федорович Можайский вынашивал дерзкий замысел — создать летательный аппарат тяжелее воздуха. Здесь он вычерчивал схемы первого в мире самолета… И вот в 1884 году, под Петербургом, впервые поднялись в воздух машина и человек, вместе.
Можно ли считать совпадением то, что всего через десять лет под Вологдой, в семье крестьянина родился будущий создатель мощных ИЛов?
Могучие крылья сегодня за самый короткий срок доставят тебя в любой район области. Старинные русские города встретят гостя по-здешнему хлебосольно: древний Великий Устюг, уроженцы которого осваивали сибирские, дальневосточные и североамериканские берега. Дохнет на тебя свежестью великих северных рек. Тихая Тотьма, окруженный лесами Никольск, Белозерск, озерная Вытегра, Устюжна…
Пространства стали доступней, дороги сократились во времени. Но становится ли от этого доступней человеческий мир? Однажды в течение одного дня мне пришлось побывать в столицах трех европейских государств, а вечером еще успел поглазеть на публику в Марсельском порту. Но за весь день, из-за утомления и спешки, почти ничего неосталось в моей памяти…
Поглощение пространства, «охота к перемене мест» стали нынче модой. Многим кажется, что чем больше он изъездит, тем культурней и шире станет его кругозор. Зачастую мы стремимся вдаль, не желая замечать того, что рядом. Считаем достойным внимания только то, что не свое. Но ведь доступность того, чужого, часто только мнимая, иллюзорная, подлинного узнавания не получается. «Ездил в Суздаль», «Был в Ферапонтове», «Собираюсь в Париж». Вот так же многие люди считают, что познали Льва Толстого и Федора Достоевского, посмотрев несколько кинофильмов, поставленных по произведениям величайших в мире писателей.
К сожалению, полуобразование и полукультура прекрасно уживаются с излишней самоуверенностью и недостаточной скромностью. Активность таких людей также бывает поразительна: не успеешь открыть рот, чтобы сказать слово, как тебе уже объяснили, что к чему и как ты должен думать, если не желаешь прослыть профаном. Такие люди знают почти все: в каком доме должен жить нынешний крестьянин, что ему носить по будням, а что по праздникам, стоит ли ему держать корову и сажать капусту.
Дискуссии о судьбе крестьянина идут одна за другой, спорят «до потери сознательности», как говаривала покойница Раиса Пудова. Например, о той же, набившей оскомину проблеме сселения. Зуд прогрессивности не дает покоя таким спорщикам. Уверен, что, если бы им власть в руки, они бы тотчас поселили людей в палатках, снесли с лица земли тысячи деревень, а на больших дорожных перекрестках начали бы строить по одному-два небоскреба. И баста. Многих сверхактивных доброхотов и «знатоков» сельского хозяйства просто не устраивает естественный, нормальный ход событий. Им требуется немедленный «форсаж», иные же согласны только на срочный какой-то переворот, на ломку, и не иначе как на коренную. (Для этих важно сломать, уничтожить то, что есть, а то, что будет после, для них не так уж и важно.) Помню, с какой энергией обсуждался в прессе вопрос, в каком дому жить колхознику. С верандой или без, с русской печью или с котельной? Чего греха таить, я тоже сподобился участвовать в этой дискуссии. (Помнится, примерно в это же время и с тем же пафосом в «Литгазете» появилась статья о пользе дирижаблей. Газетчики и специалисты всерьез разглагольствовали о том, строить ли дирижабли или пока не строить, так сказать, подождать). Такие, чисто прикладного характера, разговоры и взгляды на деревню, не лишенные некоего, я бы сказал, спортивного азарта, — не редкость и до сих пор. Но можно бы оставить в покое журналистского доброхота, не знающего разницы между пшеном и просом, тренирующего свою социальную активность на сельских проблемах. Можно бы… Если бы он не находил себе поддержки снизу, из самой, как говорится, глубинки. Ведь для руководителя-бюрократа (будь он бригадиром, председателем и далее — вплоть до главка и министерства) просто клад такие, например, идеи, как немедленное сселение тысяч маленьких деревень. Я подчеркиваю: немедленное. Потому что медленное их никак не устраивает. В самом деле, разве не заманчиво? Сселить (то есть уничтожить) все мелкие деревни в районе, сделать два-три поселка городского типа. Ликвидировать все пекарни, бани, сельские школы, магазины, лавки, больницы и медпункты. Поставить на поток руководство, обслуживание, образование и здравоохранение. Не надо ездить ни в командировки, ни мотаться по району. Любой вопрос можно в полминуты решить по телефону. Собрать актив или собрание — тоже дело минутное: зачитал директиву, отзвонил и с колокольни долой, смотри себе телевизор. Да о такой системе только и мечтает бюрократ! То есть человек ленивый или глупый, тот, кто не умеет или не хочет быть настоящим руководителем. Зачем строить сельские школы? Возиться со строителями, доставать шифер, цемент, трубы? Не лучше ли собрать детей со всего района в интернат да и учить? Лучше, конечно. Для бюрократа. И для ленивых родителей, которым высвобождается время для пьянки. Свез кучу детей в интернат — и всю зиму в ус не дуй: там их накормят, оденут и спать уложат вовремя. А то, что они уже потеряны для деревни, — не в счет.
Тут мне приходит на ум собственное воспоминание о раннем детстве. Помню, как страшно, как горько и тревожно было, когда мать уходила из дома на целый день. И как радостно, удивительно легко становилось на душе, когда она возвращалась!
Мир вновь становился счастливым и солнечным. А ведь дети, живущие в интернате, не видят родных по восемь-девять месяцев в году.
Не знаю, как чувствуют себя дети, с семи лет живущие в интернате. Может быть, они и впрямь счастливее вдали от семьи и родного дома. Но то, что это не идет на пользу родителям, в этом никто меня не разубедит.
Как сейчас помню Шурку Федотову — сверстницу моей сестры. Я был чуть постарше и уже стеснялся играть с ними. А они целыми днями пели и верещали то в нашем, то в другом доме, летом плескались в речке, ходили по ягоды, зимой после школы забирались на печку, декламировали стихи и опять пели. Откуда-то они узнавали уйму песен:
Гудела степь донская
От ветра и огня,
Казачка молодая
Садилась на коня.
Прощай, отец мой родный,
Прощай, старуха-мать,
Я еду за свободу,
За землю воевать.
Сказала и помчалась
По ветреной степи,
А ей вослед шумели
Степные ковыли.
Голоса девочек так ясно звучат у меня в ушах и до сих пор. Шурка Федотова, как и все мы, счастливо (хотя бедно и голодно) пережила войну и жуткие 45 — 46-й годы. Позднее ее мать, Марья, купила другой дом, в Алферовской, а Шурка вышла замуж в Дружинине. Она родила Десятерых детей, стала матерью-героиней. Все дети, достигнув семи лет, отправлялись в Харовск в школу-интернат. Отец их Арсений Борисов работал лесником. Однажды в сентябре двух мальчиков он отвез в Харовск, одного в первый класс, другого — в третий. Через неделю они решили сбежать домой. От Харовска до Дружинина без мала семьдесят километров. И вот два маленьких существа, два пилигрима, идут домой, стараясь не ступать на большую дорогу. По тропкам, обходя деревни, чтобы их не увидели взрослые и не вернули обратно. Они прошли шестьдесят два километра! Не знаю, где и как ночевали. За один день и взрослый не смог бы столько пройти. До дома оставалось всего четыре километра, когда их нагнал «газик». Ребят посадили в машину и тут же увезли обратно, не заехав даже к отцу и матери в Дружинино.

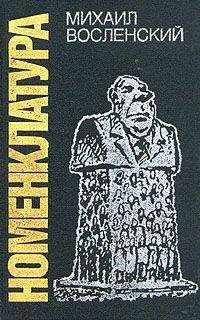
![Хол Клемент - Огненный цикл [ Экспедиция "Тяготение". У критической точки. Огненный цикл]](https://cdn.my-library.info/books/68644/68644.jpg)

