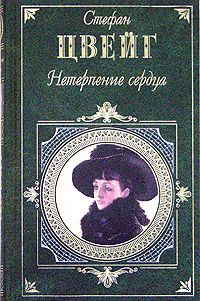Старик разволновался, его глаза, недавно усталые, ярко заблестели.
— Замечательный человек, говорю я вам, он никогда не бросит на произвол судьбы; в каждом случае он считает себя обязанным вылечить больного… я не умею это выразить как следует… но он словно чувствует себя виноватым, если ему не удается помочь… он считает себя виновным… и поэтому… вы мне не поверите, но я клянусь вам, это правда, — однажды ему не удалось то, что он задумал… он обещал одной женщине, терявшей зрение, вылечить ее… и, когда она все-таки ослепла, он женился на ней… Вы только представьте себе: молодой человек женился на слепой женщине, на семь лет старше его… ни красоты, ни денег, к тому же еще истеричка… Она камнем висит у него на шее и даже не испытывает к нему никакой благодарности… Вот видите, какой это человек, а?.. Теперь вы понимаете, как я счастлив, что встретился с ним… с человеком, который заботится о моем ребенке так же, как я сам. Я и в завещание его включил… Если кто-нибудь способен помочь ей, так только он. Дай бог! Дай бог!
Некоторое время старик сидит, сложив ладони, как на молитве. Потом резким движением придвигает свой стул поближе ко мне.
— А теперь послушайте, господин лейтенант. Я хочу вас кое о чем попросить. Я уже говорил вам, какой отзывчивый человек этот доктор Кондор… Но, видите ли… именно потому, что он такой хороший человек, я и тревожусь… Вы понимаете, я боюсь… боюсь, что он, щадя меня, не говорит правды, не говорит всей правды. Он все время обнадеживает меня, что девочке непременно станет лучше, что она совсем поправится… но всякий раз, как я спрашиваю его в упор, когда же наконец это будет и сколько нам еще осталось ждать, он уклоняется от ответа, повторяя снова и снова: «Терпение, терпение!» Но я должен быть уверен… ведь я старый, больной человек, и мне надо знать, доживу ли я… увижу ли ее здоровой, совсем здоровой… Нет, поверьте, господин лейтенант, я больше не могу так жить… я должен знать твердо, вылечится ли она и когда… я не могу дольше выносить эту неопределенность…
Не в силах совладать с волнением, Кекешфальва встал и стремительно подошел к окну. Я знал эту его манеру. Всякий раз, когда у него к глазам подступали слезы, он резко отворачивался, пряча лицо. Старик тоже не хотел, чтобы его жалели, — он был похож на свою дочь! Правая рука его неловко нащупала задний карман унылого черного сюртука, скомкала и вытащила платок; напрасно он пытался сделать вид, будто вытирает пот со лба, — я слишком отчетливо видел его покрасневшие веки. Раз-другой он прошелся по комнате; что-то скрипело и стонало, и я не знал, что это: то ли прогнившие половицы под его ногами, то ли он сам, старый, дряхлый человек. Наконец, точно собираясь погрузиться в воду, он глубоко вздохнул.
— Простите… я не хотел об этом говорить… о чем это я? Ах, да… завтра опять приезжает из Вены доктор Кондор, он предупредил по телефону… он навещает нас регулярно, раз в две-три недели… Если бы это от меня зависело, я бы вообще не отпускал его отсюда… он мог бы жить здесь, у нас, я платил бы ему, сколько он пожелает. Но он говорит, что нужно смотреть больную через определенный промежуток… да… Что это я хотел сказать?.. Ах да, вспомнил… так вот, завтра он приезжает и во второй половине дня будет осматривать Эдит; обычно он остается у нас ужинать, а ночью скорым возвращается в Вену. И вот я подумал: если бы кто-нибудь просто так, между прочим, спросил его… кто-нибудь совершенно посторонний, кого он не знает… спросил бы его просто так… при случае, как осведомляются о знакомых… Спросил бы, как, собственно, обстоит дело с ее болезнью и думает ли он, что девочка вообще когда-нибудь поправится… и будет совсем здорова… вы понимаете? Совсем здорова… и как долго, по его мнению, это еще протянется… У меня предчувствие, что вам он не солжет… Ведь вас ему незачем щадить, вам он может спокойно сказать правду… от меня он вынужден ее таить — как-никак я отец, к тому же старый, больной человек, и он знает, что все это разрывает мне сердце… Но, конечно, вы заведете этот разговор совершенно невзначай… так, как обычно справляются у врача о здоровье знакомого… Вы не откажете?.. Вы сделаете это для меня?
Мог ли я отказать? Передо мной сидел старик и со слезами на глазах ждал моего «да», точно трубного гласа в день Страшного суда. Разумеется, я обещал ему все. Он тут же радостно протянул мне обе руки.
— Я знал это! Я знал это еще в тот раз, когда вы пришли к нам опять и были так добры к девочке после… ну, вы помните… еще тогда я сразу увидел: вот человек, который меня поймет… он, и только он, спросит у доктора… И… я обещаю вам, я вам клянусь, ни одна душа об этом не узнает, ни теперь, ни потом, никто — ни Эдит, ни Кондор, ни Илона… только я буду знать, какую услугу, какую неоценимую услугу вы мне оказали.
— Ну что вы, господин фон Кекешфальва… ведь это же такой пустяк.
— Нет, это не пустяк… вы мне оказываете очень большую… огромную услугу… огромную! И если… — он слегка пригнулся, и его голос, как будто робко прячась, зазвучал тише, — если я, со своей стороны, что-нибудь… чем-нибудь смогу вам помочь… может быть, вы…
Вероятно, я сделал испуганное движение (неужели он хотел сразу же со мной расплатиться?!), ибо он поспешно добавил, несколько заикаясь, что с ним всегда случалось при сильном волнении:
— Нет, нет, поймите меня правильно… я вовсе не думаю… я не имею в виду ничего материального… я хотел лишь сказать, что… я хотел только… У меня хорошие связи… Я знаю многих людей в министерствах и в военном министерстве тоже… а в наше время никогда не мешает, если у тебя есть человек, на которого можно рассчитывать… конечно, только это я и подразумевал… У каждого может наступить такой момент… вот… только это я и хотел вам сказать.
Боязливое смущение, с которым Кекешфальва предложил мне свою помощь, заставило меня устыдиться. За все это время он ни разу на меня не взглянул, а говорил куда-то вниз, как бы обращаясь к собственным рукам. Лишь теперь он беспокойно поднял глаза, нащупал снятые очки и водрузил их на нос дрожащими пальцами.
— Может быть, — пробормотал он, — нам лучше перейти теперь в дом, а то… а то Эдит обратит внимание, что нас так долго нет. К сожалению, с ней приходится быть страшно осторожным: с тех пор как она заболела, у нее какая-то обостренная чувствительность: сидя в своей комнате, она знает все, что делается в доме… обо всем догадывается прежде, чем успеваешь раскрыть рот… И если она, чего доброго… вот почему нам с вами лучше вернуться туда, пока у нее не возникло подозрение!..
Мы перешли в дом. В гостиной нас уже ждала Эдит в своем кресле-каталке. Когда мы вошли, она подняла серые проницательные глаза, словно желая прочесть на наших лицах то, о чем мы говорили. И так как мы не выдали себя ни малейшим намеком, она весь вечер оставалась замкнутой и неразговорчивой.
Я назвал «пустяком» просьбу Кекешфальвы — по возможности непринужденнее расспросить незнакомого мне врача, каковы шансы парализованной девушки на выздоровление; и в действительности, это дело, если смотреть на него со стороны, не требовало больших усилий. Но я даже затрудняюсь объяснить, как много означало это непредвиденное поручение для меня самого. Ведь ничто так не усиливало чувство собственного достоинства у молодого человека, ничто так не способствует формированию его характера, как неожиданно поставленная перед ним задача, осуществление которой зависит всецело от его собственной инициативы и его собственных сил. Разумеется, ответственность выпадала на мою долю и прежде, но всегда лишь служебная, воинская, неизменно сводившаяся к действиям, которые я, как офицер, должен был совершать, повинуясь приказу начальника и не выходя за пределы строго очерченного круга обязанностей, — например, принять командование эскадроном, обеспечить доставку груза, закупить лошадей, разрешить спор между нижними чинами. Все эти приказы и их выполнение были положены по уставу, все они предусматривались инструкциями — писаными или печатными; в сомнительных же случаях достаточно было обратиться за советом к старшему и более опытному товарищу, чтобы переложить на чужие плечи бремя ответственности. Но Кекешфальва обратился с просьбой не к офицеру, а к моему внутреннему «я», чьи способности и возможности, пока неведомые мне самому, еще предстояло обнаружить. И когда этот чужой человек, нуждаясь в помощи, из всех своих друзей и знакомых выбрал именно меня, его доверие доставило мне больше радости, чем все прежние похвалы начальства и товарищей.
Правда, радость пришла вместе с некоторым замешательством, ибо она впервые открыла мне, каким нечутким и пассивным было до сих пор мое участие. Как мог я, бывая в этом доме, не задать самого естественного, само собой возникающего вопроса: надолго ли бедняжка останется парализованной? Способно ли врачебное искусство найти средство против этого? Какой позор! Ни разу я не спросил об этом ни Илону, ни отца, ни нашего полкового врача. Я воспринял недуг Эдит как совершившийся факт, как нечто непоправимое; тревога, которая уже много лет мучила отца, настигла меня внезапно, точно пуля. А что, если этот врач и в самом деле сможет избавить девочку от страданий! Если бы жалкие, скованные неподвижностью ноги снова обрели способность свободно и легко шагать, если бы это обиженное богом создание вновь смогло вихрем носиться по лестнице — вверх, вниз! — подгоняемое собственным смехом, в детском восторге и упоении! Я точно захмелел от этой мысли, представив себе, как мы вдвоем, втроем будем тогда скакать верхом по полям, как она, вместо того чтобы сидеть в ожидании в своей темнице, сможет встретить меня у ворот и пойти со мной на прогулку. Нетерпеливо считал я теперь часы, чтобы поскорее расспросить обо всем незнакомого врача, быть может, даже нетерпеливее, чем сам Кекешфальва; еще ни разу в жизни ни одна задача не представлялась мне такой важной.