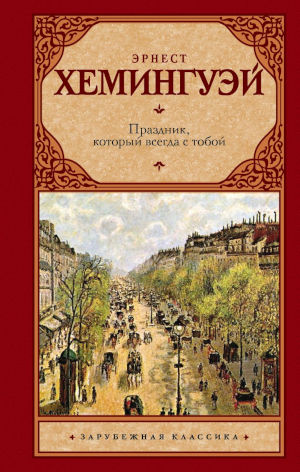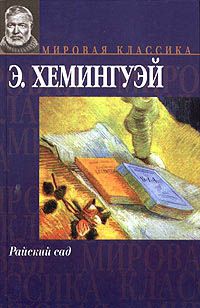и сказала.
— Будем чувствовать себя свободно, — сказал Пасхин. — Серьезный молодой писатель, и доброжелательный мудрый старый художник, и две молодые красивые девушки, у которых впереди вся жизнь.
Так мы и сидели, и девушки прихлебывали из своих рюмок, Пасхин выпил еще один коньяк с содовой, а я пил пиво, но никто не чувствовал себя свободно, кроме Пасхина. Брюнетка то и дело меняла позу, выставляя себя напоказ, поворачивалась в профиль так, чтобы свет подчеркивал линии ее лица, и показывала мне обтянутую черным свитером грудь. Ее коротко подстриженные волосы были черные и гладкие, как у восточных женщин.
— Ты целый день позировала, — сказал ей Пасхин. — Тебе непременно надо демонстрировать этот свитер здесь, в кафе?
— Мне так нравится, — сказала она.
— Ты похожа на яванскую куклу, — сказал он.
— Не глазами, — сказала она. — Это не так просто.
— Ты похожа на бедную, совращенную poupée [25].
— Может быть, — сказала она. — Но зато живую. А о тебе этого не скажешь.
— Ну, это мы еще увидим.
— Прекрасно, — сказала она. — Я люблю доказательства.
— Тебе их было недостаточно сегодня?
— Ах, это, — сказала она и подставила лицо последним отблескам вечернего света. — Тебя просто взбудоражила работа. Он влюблен в свои холсты, — сказала она мне. — Вечно какая-нибудь грязь.
— Ты хочешь, чтобы я писал тебя, платил тебе, спал с тобой, чтобы у меня была ясная голова и чтобы я еще был влюблен в тебя, — сказал Пасхин. — Ах ты, бедная куколка.
— Я вам нравлюсь, мосье, не правда ли? — спросила она.
— Очень.
— Но вы слишком большой, — сказала она огорченно.
— В постели все одного роста.
— Неправда, — сказала ее сестра. — И мне надоел этот разговор.
— Послушай, — сказал Пасхин. — Если ты считаешь, что я влюблен в холсты, завтра я нарисую тебя акварелью.
— Когда мы будем ужинать? — спросила ее сестра. — И где?
— Вы с нами поужинаете? — спросила брюнетка.
— Нет. Я иду ужинать со своей légitime [26]. — Тогда жен называли так. А теперь говорят: моя régulière [27].
— Вы обязательно должны идти?
— И должен и хочу.
— Ну, тогда иди, — сказал Пасхин. — Да смотри не влюбись в машинку.
— В таком случае я стану писать карандашом.
— Завтра акварель, — объявил он. — Ну ладно, дети мои, я выпью еще рюмочку, и пойдем ужинать, куда вы захотите.
— К «Викингу», — сказала брюнетка.
— Именно, — поддержала ее сестра.
— Ладно, — согласился Пасхин. — Спокойной ночи, jeune homme [28]. Приятных снов.
— И вам того же.
— Они не дают мне спать, — сказал он. — Я никогда не сплю.
— Усните сегодня.
— После «Викинга»? — Он ухмыльнулся, сдвинув шляпу на затылок. Он был больше похож на гуляку с Бродвея девяностых годов, чем на замечательного художника. И позже, когда он повесился, я любил вспоминать его таким, каким он был в тот вечер в «Куполе». Говорят, что во всех нас заложены ростки того, что мы когда-нибудь сделаем в жизни, но мне всегда казалось, что у тех, кто умеет шутить, ростки эти прикрыты лучшей почвой и более щедро удобрены.
Эзра Паунд и его «Бель Эспри»
Эзра Паунд был всегда хорошим другом и всегда оказывал кому-то услуги. Его студия на Нотр-Дам-де-Шан, в которой он жил со своей женой Дороти, была так же бедна, как богата была студия Гертруды Стайн. Но в ней было много света, и стояла печка, и стены были увешаны картинами японских художников, знакомых Эзры. Все они у себя на родине были аристократами и носили длинные волосы. Когда они кланялись, их черные блестящие волосы падали вперед. Они произвели на меня большое впечатление, но картины их мне не нравились. Я их не понимал, хотя в них не было тайны, а когда я их понял, то остался к ним равнодушен. Очень жаль, но я тут ничего не мог поделать.
А вот картины Дороти мне очень нравились, и сама Дороти, на мой взгляд, была очень красива и прекрасно сложена. Еще мне нравилась голова Эзры работы Годье-Бржески и все фотографии творений этого скульптора, которые показывал мне Эзра и которые были в книге Эзры о нем. Кроме того, Эзре нравились картины Пикабиа, но я тогда считал их никудышными. И еще мне не нравились картины Уиндхема Льюиса, которые очень нравились Эзре. Ему нравились работы его друзей, что доказывало глубину его дружбы и самым губительным образом отражалось на его вкусе. Мы никогда не спорили об этих картинах, так как я помалкивал о том, что мне не нравилось. Я считал, что любовь к картинам или литературным произведениям друзей мало чем отличается от любви к семье и, следовательно, критиковать их невежливо. Порой приходится немало вытерпеть, прежде чем начнешь критически отзываться о своих близких или родных жены; с плохими же художниками дело обстоит проще, потому что они, в отличие от близких, не могут сделать ничего страшного и ранить в самое больное место. Плохих художников просто не надо смотреть. Но даже когда вы научитесь не смотреть на близких, и не слышать их, и не отвечать на их письма, все равно у них останется немало способов причинять зло. Эзра относился к людям с большей добротой и христианским милосердием, чем я. Его собственные произведения, если они ему удавались, были так хороши, а в своих заблуждениях он был так искренен, и так упоен своими ошибками, и так добр к людям, что я всегда считал его своего рода святым. Он был, правда, крайне раздражителен, но ведь многие святые, наверно, были такими же.
Эзра попросил, чтобы я научил его боксировать, и вот как-то вечером во время одного из таких уроков у Эзры в студии я и познакомился с Уиндхемом Льюисом. Эзра начал боксировать совсем недавно, и мне было неприятно учить его в присутствии его знакомого, и я старался, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Однако это не очень получалось, потому что Эзра привык к приемам фехтования, а мне надо было научить его работать левой и выдвигать вперед левую ногу, а потом уже ставить параллельно ей правую. Это были самые элементарные приемы. Но мне так и не удалось научить его хуку левой, а правильное положение правой было для него делом далекого будущего.
Уиндхем Льюис носил широкополую черную шляпу, в которых обычно изображают обитателей Латинского квартала, и