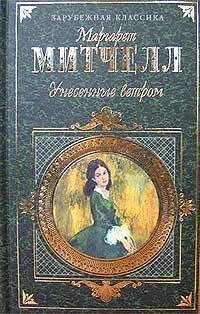— Ретт, неужели вы в самом деле… значит, это чтобы защитить меня, вы…
— Да, моя прелесть, моя хваленая галантность побуждает меня защищать вас. — В черных глазах его заблестели насмешливые огоньки, и лицо утратило серьезность и напряженность. — А почему? Все из-за моей глубокой любви к вам, миссис Кеннеди. Да, я молча терзался — жаждал вас, и алкал вас, и боготворил вас издали, но, будучи человеком порядочным, совсем как мистер Эшли Уилкс, я это скрывал. К сожалению, вы — супруга Фрэнка, и порядочность запрещает мне говорить вам о своих чувствах. Но даже у мистера Уилкса порядочность иногда дает трещину, вот и моя треснула, и я открываю вам мою тайную страсть и мою…
— Да замолчите вы, ради бога! — оборвала его Скарлетт, донельзя раздосадованная, что случалось с ней всегда, когда он делал из нее самовлюбленную дуру; к тому же ей вовсе не хотелось обсуждать Эшли и его порядочность. — Что еще вы хотели мне сказать?
— Что?! Вы меняете тему нашей беседы в тот момент, когда я обнажаю перед вами любящее, но истерзанное сердце? Ну ладно, я хотел вам вот что сказать. — Насмешливые огоньки снова исчезли из его глаз, и лицо помрачнело, приняло сосредоточенное выражение. — Я хотел, чтобы вы что-то сделали с этой лошадью. Она упрямая, и губы у нее загрубели и стали как железо. Вы ведь устаете, когда правите ею, верно? Ну, а если она вздумает понести, вам ее ни за что не остановить. И если она вывернет вас в канаву, то и вы, и ваш младенец можете погибнуть. Так что либо доставайте для нее очень тяжелый мундштук, либо позвольте мне поменять ее на более спокойную лошадку с более чувствительными губами.
Скарлетт подняла на него глаза, увидела его бесстрастное, гладко выбритое лицо, и все раздражение ее куда-то исчезло — как раньше исчезло смущение оттого, что они заговорили о ее беременности. Он был так добр с ней несколько минут назад, так старался рассеять ее смущение, когда ей казалось, что она вот-вот умрет со стыда. А сейчас он проявил еще большую доброту и внимание, подумав о лошади. Волна благодарности затопила Скарлетт, и она вздохнула: «Ну, почему он не всегда такой?»
— Да, мне трудно править этой лошадью, — покорно признала она. — Иногда у меня потом всю ночь руки болят — так сильно приходится натягивать вожжи. Вы уж решите сами, как лучше быть с ней, Ретт.
Глаза его озорно сверкнули.
— Это звучит так мило, так по-женски, миссис Кеннеди. Совсем не в вашей обычной повелительной манере. Значит, надо лишь по-настоящему взяться, чтобы вы стали покорно гнуться, как лоза, в моих руках.
Гнев снова проснулся в ней, и она насупилась.
— На этот раз вы вылезете из моей двуколки или я ударю вас кнутом. Сама не знаю, что заставляет меня вас терпеть, почему я пытаюсь быть с вами любезной. Вы невоспитанный человек. Безнравственный. Вы самый настоящий… Ну, хватит, вылезайте. Я это всерьез говорю.
Но когда он вылез из двуколки, отвязал свою лошадь и, стоя на сумеречной дороге, с раздражающей усмешкой посмотрел на нее, она, уже отъезжая, не выдержала и усмехнулась ему в ответ.
Да, он грубый, коварный, на него нельзя положиться: вкладываешь ему в руки тупой нож, а он в самый неожиданный момент вдруг превращается в острую бритву. И все-таки присутствие Ретта придает бодрости, как… совсем как рюмка коньяку!
А Скарлетт за эти месяцы пристрастилась к коньяку. Когда она вечером возвращалась домой, промокшая под дождем, уставшая от многочасового сидения в двуколке, ее поддерживала лишь мысль о бутылке, спрятанной в верхнем ящике бюро, которое она запирала на ключ от бдительного ока Мамушки. Доктору Миду и в голову не пришло предупредить Скарлетт, что женщина в ее положении не должна пить, ибо он даже представить себе не мог, что приличная женщина станет пить что-либо крепче виноградного вина. Разве что бокал шампанского на свадьбе или стаканчик горячего пунша при сильной простуде. Конечно, есть на свете несчастные женщины, которые пьют — к вечному позору своих семей, — как есть женщины ненормальные, или разведенные, или такие, которые наряду с мисс Сьюзен Б. Энтони [20]считают, что женщинам надо дать право голоса. Но хотя доктор во многом не одобрял поведения Скарлетт, он никогда не подозревал, что она пьет.
Скарлетт же обнаружила, что рюмочка чистого коньяку перед ужином очень помогает, а потом всегда можно пожевать кофе или прополоскать рот одеколоном, чтобы отбить запах. И почему это люди так нетерпимо относятся к женщинам, которые любят выпить, тогда как мужчины могут напиваться — да и напиваются — до бесчувствия, стоит им захотеть?! Иной раз, когда Фрэнк храпел с ней рядом, а от нее бежал сон и она ворочалась в постели, страшась бедности, опасаясь янки, тоскуя по Таре и страдая без Эшли, ей казалось, что она сошла бы с ума, если бы не коньяк. А как только приятное знакомое тепло разливалось по жилам, все беды начинали отступать. После трех рюмочек она уже могла сказать себе: «Я подумаю об этом завтра — тогда легче будет во всем разобраться».
Но бывали ночи, когда даже с помощью коньяка Скарлетт не удавалось утишить боль в сердце, боль, куда более сильную, чем страх потерять лесопилки, — неутолимую боль разлуки с Тарой. Порой Скарлетт становилось невыносимо душно в этой полной чужаков Атланте, с ее шумом, новыми домами, узкими улицами, запруженными лошадьми и фургонами, толпами людей на тротуарах. Она любила Атланту, но… ах, как ее тянуло к мирному покою и деревенской тишине Тары, к этим красным полям и темным соснам вокруг дома! Ах, вернуться бы в Тару, как бы ни тяжело там было жить! Быть рядом с Эшли, хотя бы только видеть его, слышать звук его голоса, знать, что он ее любит! Каждое письмо от Мелани с сообщением, что все идет хорошо, каждая коротенькая записочка от Уилла с описаниями того, как они взрыхляют землю, сажают, растят хлопок, вызывали у Скарлетт новый прилив тоски по дому.
«Я уеду в июне. Тогда мне делать тут будет уже нечего. Уеду домой месяца на два», — подумала она, и сердце у нее подпрыгнуло от радости. Она и в самом деле поехала домой в июне, но не так, как ей бы хотелось, ибо в начале этого месяца от Уилла пришла коротенькая записка с сообщением, что умер Джералд.
Поезд сильно опаздывал, и на землю спускались неспешные синие июньские сумерки, когда Скарлетт сошла на платформе в Джонсборо. В окнах немногочисленных лавок и домов, уцелевших в городке, светились желтые огоньки ламп. На главной улице то и дело попадались широкие пустыри между домами на месте разрушенных снарядами или сгоревших домов. Темные, молчаливые развалины с продырявленной снарядами крышей, с полуобрушенными стенами смотрели на Скарлетт. Возле деревянного навеса над лавкой Булларда было привязано несколько оседланных лошадей и мулов. Пыльная красная дорога тянулась пустынная, безжизненная; лишь из салуна в дальнем конце улицы отчетливо разносились в тихом сумеречном воздухе выкрики да пьяный смех.
Станцию, сгоревшую во время войны, так и не отстроили — на месте ее стоял лишь деревянный навес, куда свободно проникали дождь и ветер. Скарлетт прошла под навес и села на пустой бочонок, явно поставленный здесь вместо скамьи. Она внимательно всматривалась в конец улицы, надеясь увидеть Уилла Бентина. Ему следовало бы уже быть здесь. Не мог он не сообразить, что она сядет на первый же поезд, как только получит его записку о смерти Джералда.
Она выехала так поспешно, что в ее маленьком саквояже лежали лишь ночная сорочка да зубная щетка — даже смены белья она с собой не взяла. Скарлетт задыхалась в узком черном платье, которое одолжила у миссис Мид, ибо времени на то, чтобы сшить себе траурный наряд, у нее не было. А миссис Мид стала совсем худенькая, да и Скарлетт была беременна не первый месяц, так что платье было ей узко. Несмотря на горе, вызванное смертью Джералда, Скарлетт не забывала заботиться о своей внешности и сейчас с отвращением оглядела свою распухшую фигуру. Талия у нее совсем пропала, а лицо и щиколотки опухли. До сих пор ее не слишком занимал собственный вид, но сейчас, когда она через какой-нибудь час предстанет перед Эшли, это было ей совсем не безразлично. Несмотря на постигший ее тяжелый удар, Скарлетт приходила в ужас при одной мысли о том, что встретится с ним, когда под сердцем у нее — чужое дитя. Она ведь любит его, и он любит ее, и этот нежеланный ребенок казался Скарлетт как бы свидетельством ее неверности Эшли. Но хотя ей и неприятно было, что он увидит ее такой — раздавшейся, без талии, утратившей легкость походки, — встречи с ним не избежать.
Она нетерпеливо похлопала себя по колену. Следовало бы Уиллу уже быть здесь. Конечно, она могла бы зайти к Булларду и выяснить, нет ли его там, или попросить кого-нибудь подвезти ее в Тару, если Уилл почему-то не смог приехать. Но ей не хотелось идти к Булларду. Была суббота, и, наверно, половина мужского населения округи уже там. А Скарлетт не хотелось показываться им в траурном платье, которое было совсем не по ней и не только не скрывало, а подчеркивало ее деликатное положение. Не хотелось выслушивать и слова сочувствия по поводу смерти Джералда. Не нужно ей их сочувствие. Она боялась, что расплачется, если кто-нибудь хотя бы произнесет его имя. А плакать она не желает. Она знала: стоит только начать — и рыданий не остановишь, как в ту страшную ночь, когда пала Атланта, и Ретт бросил ее на темной дороге за городом, и она рыдала, уткнувшись лицом в гриву лошади, рыдала так, что, казалось, у нее лопнет сердце, и не могла остановиться.