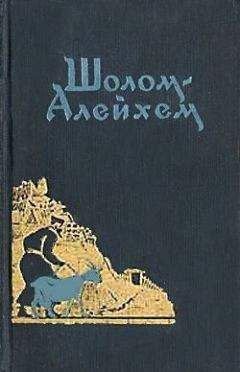И вот так мы являемся к дяде Герцу на трапезу.
5
Хотя на дворе еще день, но у дяди Герца уже зажгли свечи, много свечей; на столе горят лампы, по стенам светильники. Стол накрыт. Большое место на нем занял огромный праздничный пирог с маком, величиной с целого вола. А вокруг стола толчется вся наша фамилия – все дядья и тетки, двоюродные братья и сестры, – слава тебе, господи, беднота, как на подбор, – одни чуть побольше, другие чуть поменьше! Они тихо переговариваются между собой и напряженно ждут, как на обрезании, когда вот-вот должны внести младенца. Дяди Герца не видно, а тетя, женщина со вставной челюстью, синегубая, в белом жемчуге, озабоченно мечется вокруг стола; она расставляет тарелки, пересчитывает всех нас левой рукой, вовсе не беспокоясь о том, что это может принести нам несчастье.
Но вот открывается дверь и появляется сам дядя Герц, одетый во все праздничное. На нем шелковая блестящая бекеша с широченными рукавами, меховая шапка, которую он надевает только в пурим к трапезе и в пасху к торжественной вечере. Вся родня отвешивает ему почтительный поклон, мужчины как-то странно улыбаются, потирают руки, женщины поздравляют его с праздником, а мы, детвора, стоим как истуканы и не знаем, куда деть свои «лапы». Сквозь серебряные очки дядя Герц окидывает нас всех, всю свою родню, одним коротким взглядом и, кашлянув, машет неопределенно рукой:
– Ну, что же вы не сидите? Садитесь, вот стулья!
Вся родня мгновенно рассаживается, но каждый сидит на кончике стула, боится прикоснуться к столу – как бы чего не испортить, и глубокое молчание воцаряется в зале. Слышно, как потрескивают свечи; мельтешит в глазах, на душе неладно. Хотя все голодны, но есть уже никто не хочет; аппетит сразу пропал.
– Что же вы молчите? Потолкуйте, расскажите что-нибудь! – говорит дядя Герц и кашляет, при этом подергивает плечами, откидывает назад голову и фыркает.
Родня молчит. Никто и слова не смеет вымолвить у дяди Герца за столом. Глуповато улыбаются мужчины: хотелось бы что-нибудь сказать, да не знают, с чего начать; растерянно переглядываются женщины, а мы, детвора, как в огневице или в оспе горим. Мои сестры разглядывают друг дружку так, точно они впервые в жизни встретились. Мой брат Мойше-Авром глядит куда-то в пространство, и лицо у него бледное, перепуганное. Нет, никто не решается вымолвить слово у дяди Герца за столом. Лишь один человек, как всегда и везде, чувствует себя хорошо, – это приказчик, жених нашей Мирьям-Рейзл. Он вытаскивает из заднего кармана свой большой накрахмаленный и сильно надушенный платок, громко сморкается, как у себя дома, и говорит:
– Удивительно, чтобы в пурим была такая грязь! Я думал, сейчас наберу в калоши…
– Кто этот молодой человек? – спрашивает дядя Герц, сняв серебряные очки и кашлянув, дергает плечами, вскидывает голову и фыркает.
– Это мой… мой жених… жених моей Мирьям-Рейзл, – еле слышно говорит отец, точно человек, который кается в совершенном убийстве.
Мы все застываем на месте, а Мирьям-Рейзл – о, боже мой! – Мирьям-Рейзл пылает, как соломенная крыша.
Дядя Герц вновь оглядывает родню своими строгими серыми глазами, вновь дарит нас своим «кхе-кхе», опять дергает плечами, вскидывает головой, фыркает и говорит:
– Ну, что ж вы не моетесь? Мойте руки. Вот вода!
6
Омыв руки и пошептав наскоро молитву, вся родня вновь рассаживается вокруг стола и ждет, когда дядя Герц совершит благословение и надрежет огромный праздничный пирог, тот самый, что величиною с вола. Все сидят, точно безъязыкие. Мы бы уж не прочь что-либо отведать, Да, как назло, дядя Герц устраивает всякие церемонии, точно праведник какой. Еле-еле дождались. Наконец-то нарезали пирожище величиною с вола. Но не успели мы и куска проглотить, как дядя Герц уже подымает на нас свои строгие серые глаза, кашляет, дергает плечами, запрокидывает голову и фыркает:
– Ну, что ж вы не поете? Спели бы что-нибудь! Ведь нынче пурим на земле!
Родня переглядывается, шушукается, переговаривается тишком; один другому предлагает: «Спой что-нибудь!», «Спой ты!», «Почему я, а не ты?» Торгуются так долго, пока, наконец, не выскакивает один – Авремл, сын дяди Ици – человек без растительности на лице, моргающий глазами, обладатель пискливого голоска, мнящий себя почему-то певцом.
Что хотел спеть Авремл, не знаю. Знаю лишь, что нужно было быть ангелом, самим богом, чтобы не прыснуть со смеху, когда Авремл взялся двумя пальцами за горло, состроил плаксивое лицо, сразу сбился на фальшивый тон и визгливо затянул неестественно высоко что-то дикое и тягучее. А тут еще напротив сидят ребята и таращат на него такие глаза! Нет, не покатиться со смеху никак нельзя было!
И первым прыснул я, зато и первую оплеуху от матери получил тоже я. Однако эта пощечина меня не охладила, наоборот, она вызвала хохот у всей оравы ребят и новый взрыв смеха у меня. А новый смех привел к новой пощечине, новая пощечина – к новому смеху, новый смех – к новой пощечине, и так до тех пор, пока меня, наконец, не выволокли из зала на кухню, из кухни на улицу, а там уже избитого, истерзанного, обливающегося слезами, кровавыми слезами, отвели домой.
В тот вечер я проклинал себя, проклинал пурим, трапезу, проклинал Авремла дяди Ициного, но больше всего дядю Герца, – да простит он мне, – он теперь уже в лучшем из миров. На его могиле стоит надгробный камень, лучший памятник на нашем кладбище; на том камне золотыми буквами начертаны все добродетели, которыми отличался дядя Герц при жизни:
«Здесь покоится человек, благочестивый, добрый, сердечный, добродетельный, щедрый, приветливый, отзывчивый, любезный всем и т. д. и т. д.
Да обретет душа его мир и вечный покой в раю».
1906
Трактат, читаемый публично в праздник пурим.