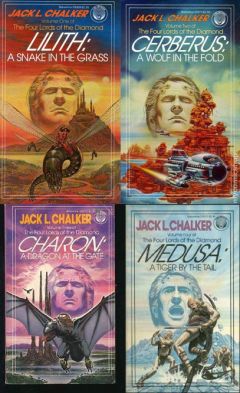И ведь, право, дошло до того, что на меня, если не на улице, то в концертах, в театре, на бульваре, начали глазеть просто кучками. В популярность вошел. И нет-нет — из этой кучки выделится знакомая фигура, подойдет и выскажет мнение. Я перестал быть свободным гражданином, я сделался аппаратом для писания статей, и только с этой точки и смотрели на меня добрые люди.
И знаете, что я сделал? Когда они нарвались у меня раз пять на грубости, когда я нескольких дам прямо обрезал заявлением, что не желаю знать их „мнения“, и вообще всем своим знакомым дал понять, что мне неприятны всякие разговоры со мною о моих писаниях, и когда все это не помогло, потому что, верно, они считали это кокетством, я напечатал желчный фельетон, где объяснил все то, что докладывал только что вам, и привел афоризм о том, что глазение публики производит впечатление пододежного насекомого, и даже назвал насекомое по имени и отчеству; а в тот же вечер пришла Анна Михайловна, закивала головой и сказала, улыбаясь:
— Читала, читала. Очень сильно! А все-таки вы неправы.
А? Что скажете?
А тут приходит из цензуры моя комедийка: разрешили.
Я боялся толкнуться на столичную сцену; пошел к нашему антрепренеру — я с ним знаком — и дал прочесть. Он указал некоторые поправки и обещал поставить. А редактор в отделе „Театр и музыка“ поместил об этом пять строк петита.
Вечером того дня шел в театре „Дядя Ваня“. Я опоздал к началу, вошел в середине действия, а в антракте побежал было к буфету… Стоп. Идет навстречу Анна Михайловна, улыбается, кивает и говорит:
— Читала, читала. Скоро, значит, будем и вас вызывать. Только отчего ж это вы не попытались пустить пьесу на Императорскую сцену? Где Савина, Мравина, Славина… Вы, верно, рассчитываете на нашу провинциальную снисходительность? О, мы будем очень строги!
Я ей ровно ничего не ответил, скользнул в буфет, забился в уголок потемней и шепотом попросил чаю…
Не помогло. Идут. Идут мировой судья, счетовод земской управы, дамы, околоточный, десяток фигур, которых я не знаю, идут на меня, улыбаются, кивают и говорят:
— Читали, читали…
И невзвидел я свету Божьего. На глазах у всей публики хватил стаканом об пол и закричал:
— Да что вы, — говорю, — глаза на меня пялите? Чего вы пристали? Когда вы меня в покое оставите? Ведь вы мне хуже клопов надоели, ведь меня от одного запаху вашего тошнит, вы меня до печени доведете… Что за каторга, Господи ты мой, — уйдите вы, говорю, с глаз моих долой!
Из наболевшей души вырвался у меня этот вопль, и…
И эти ппп… пошляки захлопали в ладоши! Жиденько, но захлопали!
Я ушел из театра. Сказал антрепренеру, что пьесы не дам. Пошел утром к издателю и объявил, что еду за границу, и, если он не хочет меня потерять, пусть назначит корреспондентом. Он со мной бился, да ничего не вышло.
— Что ж, — говорит, — поезжайте в Рим. Только уж платить будем, конечно, поменьше…
Ну, и уехал я. И не успел еще отдохнуть — вы навстречу, поклонник таланта!.. Это уж, знаете, рок! Простите великодушно».
— Коллега, — ответил я, — вы были правы, а я был виноват. Если бы вы были на моем, а я на вашем месте, я бы вас еще хуже обругал. Честное слово журналиста!
1900
Cтрашно сказать